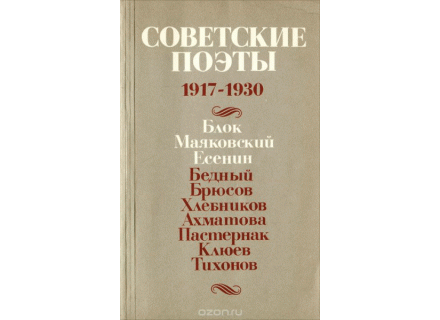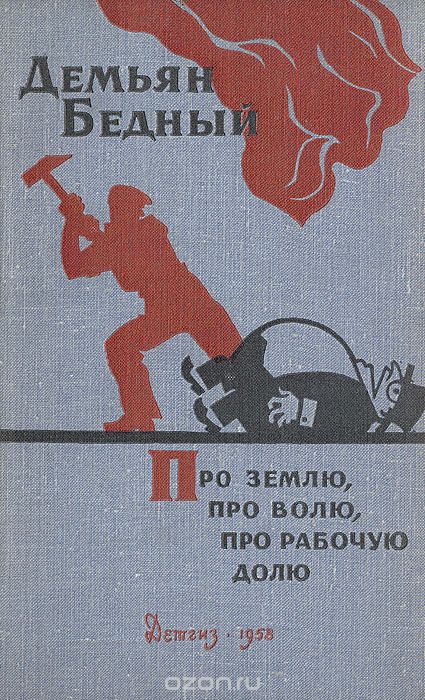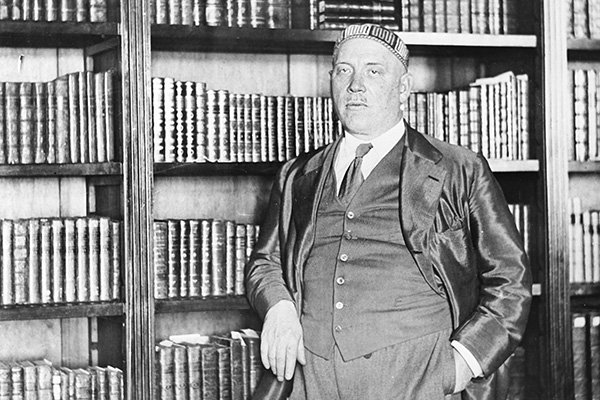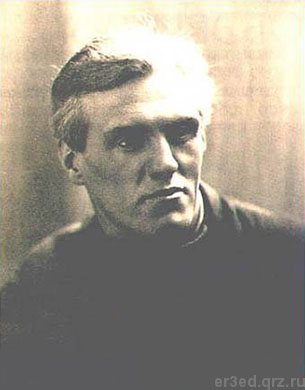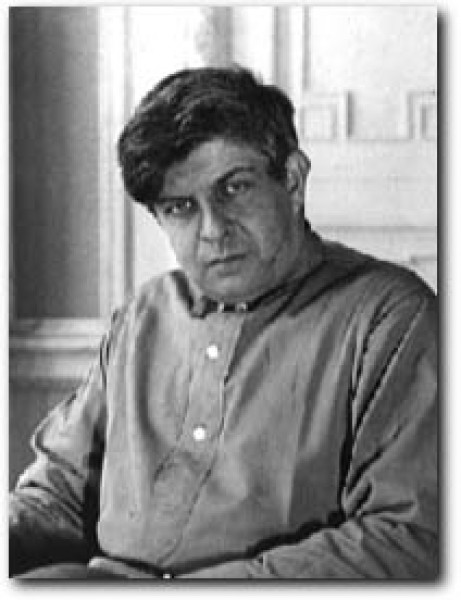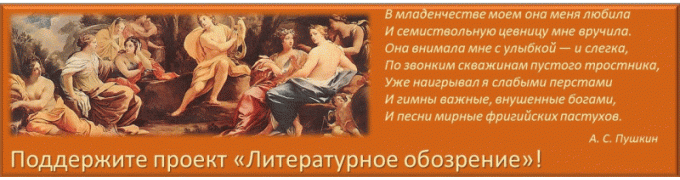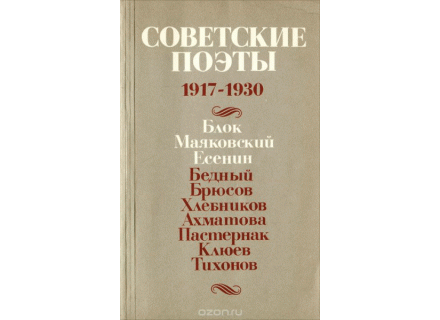 После вебинаров по поэзии 20-х и 30-х годов прошлого столетия стоит внимательнее разобрать въевшийся штамп «певец революции» — как своеобразный человеческий феномен.
После вебинаров по поэзии 20-х и 30-х годов прошлого столетия стоит внимательнее разобрать въевшийся штамп «певец революции» — как своеобразный человеческий феномен.
Многие стремились стать «певцами революции», но… сорвали голос. Некоторым это удалось вполне органично.
Во-первых, рассматривая человеческие биографии неудавшихся певцов революции, стоит вспомнить, что многие из них перед революцией, что называется, раскачивали ситуацию.
Эмигрировавший из страны Константин Бальмонт (3 [15] июня 1867, сельцо Гумнищи, Шуйский уезд, Владимирская губерния, Российская империя — 23 декабря 1942, Нуази-ле-Гран, Франция) с удовольствием обзавелся револьвером, решив «защищать революцию», патрулировал улицы с красной повязкой, чувствуя, что и сам приложил немало усилий для возникновения «революционной ситуации».
Репрессированный Николай Клюев (10 (22) октября 1884, деревня Коштуги,
Поэтому стоит не предвзято рассмотреть биографии и удавшихся певцов революции, и не слишком, отметив, что пока о многих мы знаем не слишком много. А зря! Ведь это всегда интересно, каким мотивам следует человек, чтобы «перо приравнять к штыку».
Здесь стоит упомянуть Михаила Семеновича Голодного (настоящая фамилия — Эпште́йн; 1903 — 1949) . Он интересен тем, что, будучи поэтом того времени, стоял у истоков комсомольского рабкоровского движения, давшего много поэтических имен.
Он входил в близкий круг известного поэта Михаила Светлова, поэтому лично знал многих поэтов того времени.
Кроме того, Михаил Семенович сам писал стихи, причем, не как нынче с помощью ресурсов рифма-оплайн, а настоящие, из головы… и чаще всего от души.
В его воспоминаниях есть очень интересные литературные разборы стихотворений Демьяна Бедного, Эдуарда Багрицкого, Николая Тихонова.
И на фоне каких-то интересных исторических фактов, которые мог знать лишь современник, вдобавок советский поэт, эти литературные заметки приобретают особую ценность.
Михаи́л Семёнович Голо́дный (настоящая фамилия — Эпште́йн; 1903 — 1949) — русский советский поэт и переводчик.
Родился 11 (23 декабря) 1903 года в Бахмуте. Детство и юность Михаила Голодного прошли в Екатеринославе на улице Александровской (ныне — Артёма). После установления Советской власти в городе вместе с комсомольским поэтом Михаилом Светловым стоял у истоков молодёжного рабкоровского движения. Писать начал в 1919 году. Тогда же вступил в комсомол. Первые стихи напечатаны в местных журналах «Юный пролетарий» (1920), «Молодая кузница» (1924), газете «Грядущая смена» (выходила с 1921 года). В начале 20-х годов уехал в Харьков, потом в Москву. До 1927 года был членом группы «Перевал», а затем включился в работу ВАПП. Член ВКП(б) с 1939 года. Жил в Москве в знаменитом «Доме писательского кооператива» (Камергерский переулок, 2). В годы Великой Отечественной войны был военным корреспондентом центральных и фронтовых газет.
Погиб 20 января1949 года при невыясненных обстоятельствах (сбит автомобилем). Похоронен на Новодевичьем кладбище (участок № 1) вместе с сыном Цезарем Голодным (1927—1971; журналист) и женой Лидией Павловной Цюнг-Голодной (1918—1992; певица).
Творчество
Центральное место в творчестве Михаила Голодного занимает героика Гражданской войны. Его поэмы, песни, баллады «Верка Вольная», «Судья ревтрибунала», «Песня чапаевца», «Песня о Щорсе», «Партизан Железняк» послужили созданию своеобразного исторического мифа об эпохе 1920—30-х годов. Перевёл на русский язык ряд произведений Т. Г. Шевченко, М. Ф. Рыльского, А. Мицкевича и других авторов.
В качестве «героики Гражданской войны» сам автор выделяет такое стихотворение.
На Диевке-Сухачевке
Наш отряд.
А Махно зажег тюрьму
И мост взорвал.
На Озерку не пройти
От баррикад.
Заседает день и ночь
Ревтрибунал.Стол накрыт сукном судейским
Под углом.
Сам Горба сидит во френче
За столом.Суд идет революционный,
Правый суд.
Конвоиры гада женщину
Ведут.
«Ты гражданка Ларионова?
Садись!
Ты решила, что конина
Хуже крыс.
Ты крысятину варила нам
С борщом!
Ты хлеба нам подавала
Со стеклом!Пули-выстрела не стоит
Твой обед.
Сорок бочек арестантов…
Десять лет!»
Суд идет революционный,
Правый суд.
Конвоиры начугрозыска
Ведут.«Ну-ка, бывший начугрозыска,
Матяш,
Расскажи нам, сколько скрыл ты
С Беней краж?Ты меня вводил, Чека вводил
В обман,
На Игрени брал ты взятки
У крестьян!
Сколько волка ни учи –
Он в лес опять…
К высшей мере без кассаций –
Расстрелять!»Суд идет революционный,
Правый суд.
Конвоиры провокатора
Ведут.«Сорок бочек арестантов!
Виноват!..
Если я не ошибаюсь,
Вы – мой брат.
Ну-ка, ближе, подсудимый.
Тише, стоп!
Узнаю у вас, братуха,
Батин лоб…Вместе спали, вместе ели,
Вышли – врозь.
Перед смертью, значит,
Свидеться пришлось.
Воля партии – закон.
А я – солдат.
В штаб к Духонину! Прямей
Держитесь, брат!»
Суд идет революционный,
Правый суд.
Конвоиры песню «Яблочко»
Поют.Вдоль по улице Казанской
Тишина.
Он домой идет, судья.
Его спина
Чуть сутулится. А дома
Ждет жена.
Кашу с воблой
Приготовила она.Он стучит наганом в дверь:
«Бери детей.
Жги бумаги, две винтовки
Захвати!
Сорок бочек арестантов!..
Поживей.
На Диевку-Сухачевку
Нет пути!»Суд идет революционный,
Правый суд.
В смертный бой мои товарищи
Идут.
Поэзия 20-х годов представляла собою сложную картину школ и тенденций, оставшихся по наследству от эпохи символизма. Крупнейшие из поэтов, в творчестве которых продолжали развиваться символистские и постсимволистские черты, будут рассмотрены в разделах монографического типа (В. Маяковский, С. Есенин, Н. Гумилев, Б. Пастернак, А. Ахматова, О. Мандельштам, Н. Клюев). Здесь речь будет идти только об общей художественной тенденции, в основе которой лежало приятие и осмысление революции как грандиозного героического события.
 Эту тенденцию представляли собою пролеткультовские поэты, но их творчество оказалось слишком умозрительным, пафос — абстрактным, а идеи — схематичными. Куда конкретнее и выразительнее оказался здесь поэт, который еще совсем недавно публиковал посредственные стихи и басни в большевистской периодической печати, — Демьян Бедный.
Эту тенденцию представляли собою пролеткультовские поэты, но их творчество оказалось слишком умозрительным, пафос — абстрактным, а идеи — схематичными. Куда конкретнее и выразительнее оказался здесь поэт, который еще совсем недавно публиковал посредственные стихи и басни в большевистской периодической печати, — Демьян Бедный.
Демьян Бедный — псевдоним Ефима Алексеевича Придворова, постоянного автора большевистских изданий с 1912 г. Гражданская война оказала стимулирующее влияние на его творчество.
В это время он создает агитационные стихи на фольклорной основе, которые пользовались широкой популярностью у фронтового читателя. Одно из таких стихотворений — «Проводы», — по воспоминаниям Демьяна Бедного, инспирированное Лениным, было написано как имитация рекрутской песни.
«Проводы» были откликом на создание Красной армии, остро нуждавшейся в пополнении и проводившей усиленную мобилизацию. Герой стихотворения — крестьянский парень Ванек — добровольно уходя на фронт, произносит следующий монолог:
Как родная меня мать
Провожала.
Как тут вся моя родня
Набежала.
А куда ж ты, паренек,
А куда ты?
Не ходил бы ты, Ванек,
Во солдаты.
В Красной Армии штыки,
Чай, найдутся,
Без тебя большевики
Обойдутся.
«Проводы» строились по образцу народной разговорной речи, понятной неискушенному крестьянскому читателю. Будущий солдат — крестьянин, родня его — мужицкая, и обращается он к ней согласно деревенскому этикету — с поклоном, но только для того, чтобы начать прямую агитацию за Красную Армию:
Тут я матери родной
Поклонился.
Поклонился всей семье
У порога:
«Не скулите вы по мне,
Ради Бога.
Будь такие все, как вы,
Ротозеи,
Что б осталось от Москвы,
От Расеи?»
Что делает эти, на первый взгляд, заурядные агитационные вирши настоящей поэзией? Неподдельное национальное чувство. Слова «Москва» и «Расея» для массового, «простонародного» читателя звучали не просто понятно, но едва ли не магически.
Политическая злоба дня в тот момент сливалась с патриотическими настроениями широких масс. И вот почему. В марте 1918 г. под угрозой захвата немцами Петрограда советское правительство переехало в Москву, снова сделав ее столицей России. Весной—летом началась военная интервенция, что сразу превратило большевиков из «пораженцев» в «оборонцев» и дало им возможность вести гражданскую войну под лозунгом «Социалистическое отечество в опасности!». Энергия патриотизма начала работать на новую власть, защищавшую «Москву» и «Расею».
Эмигрантская «Русская мысль» в 1921 г. не преминула отметить, что вопреки интернациональному характеру большевистской идеологии так называемая «советская поэзия» оказалась «вся, до последнего изгиба, проникнута напряженной и острой идеей Отечества». Вот почему узкопартийный публицист Демьян Бедный заговорил языком поэта, выражающего интересы крестьянской массы.
Народную складку его стихов хорошо отметил Александр Воронский, по точной характеристике которого, Демьян Бедный показал, что «без крестьянина русский рабочий неминуемо придет только к поражению».
Кроме того, популярность Демьяна Бедного поддерживалась одним немаловажным обстоятельством. Революционная Россия внезапно ощутила себя в одиночестве, что создавало предпосылки для врастания коммунистической идеологии в национальную почву. Об этом точно сказал будущий соратник Маяковского по Лефу Николай Чужак: «Момент, когда сознание рокового одиночества и прокаженной отчужденности пронзило новую Россию, — был первым ощутительным моментом национально-революционного самосознания страны«.
Слияние коммунистической идеологии с «русской идеей» (в «Проводах» — с идеей «земли и воли») было неизбежно, как неизбежным оказалось превращение большевиков в национальную власть вследствие взятой на себя задачи построения коммунизма в отдельно взятой стране. Агитационные стихи Демьяна Бедного периода гражданской войны зафиксировали рождение советской «Расеи».
 Борис Пастернак не случайно назвал в 1936 г. Демьяна Бедного «Гансом Саксом нашего народного движения». Но на этом его небольшой талант себя и исчерпал.
Борис Пастернак не случайно назвал в 1936 г. Демьяна Бедного «Гансом Саксом нашего народного движения». Но на этом его небольшой талант себя и исчерпал.
При всей плодовитости Демьяна Бедного его творчество не сыграло сколько-нибудь заметной роли в дальнейшем развитии поэзии 20-х годов, которая развивалась на основе поэтической культуры, оставленной в наследство эпохой 1900 — 1910-х годов.
Для этой культуры Демьян Бедный был фигурой третьестепенной и в эстетическом отношении глубоко провинциальной.
Уже в самом начале десятилетия на первый план выдвинулась поэтическая молодежь совершенно иной выучки. К ней относился Николай Тихонов, чьи сборники «Орда» и «Брага» (оба — 1922) получили большую популярность.
* * *
Праздничный, веселый, бесноватый, С марсианской жаждою творить, Вижу я, что небо небогато, Но про землю стоит говорить. Даже породниться с нею стоит, Снова глину замешать огнем, Каждое желание простое Освятить неповторимым днем. Так живу, а если жить устану, И запросится душа в траву, И глаза, не видя, в небо взглянут, Адвокатов рыжих позову. Пусть найдут в законах трибуналов Те параграфы и те года, Что в земной дороге растоптала Дней моих разгульная орда. 1920 Тихонов сделал в поэзии 20-х годов заявку на сильного волевого героя, рожденного революцией и гражданской войной. От лица этого героя он заявлял:
Тихонов сделал в поэзии 20-х годов заявку на сильного волевого героя, рожденного революцией и гражданской войной. От лица этого героя он заявлял:
Но если «простота» Демьяна Бедного опиралась на массовую психологию мужика, выше всего ставящего «землю и волю», то «простота» героя Тихонова носила достаточно «сложный» характер — она была романтического (и, следовательно, литературного) происхождения. Об этом достаточно красноречиво говорила его «Баллада о гвоздях».
Герои баллады получают приказ, выполнить который можно только ценою собственной гибели, но они относятся к этому совершенно спокойно, отвечая кратким: «Есть, капитан!» Концовка баллады звучала эпически и телеграфски лаконично. Столь же лаконичным было авторское резюме.
Спокойно трубку докурил до конца, Спокойно улыбку стер с лица. «Команда, во фронт! Офицеры, вперед!» Сухими шагами командир идет. И слова равняются в полный рост: «С якоря в восемь. Курс — ост. У кого жена, брат Пишите, мы не придем назад. Зато будет знатный кегельбан». И старший в ответ: «Есть, капитан!» А самый дерзкий и молодой Смотрел на солнце над водой. «Не все ли равно,- сказал он,- где? Еще спокойней лежать в воде». Адмиральским ушам простукал рассвет: «Приказ исполнен. Спасенных нет». Гвозди бы делать из этих людей – крепче бы не было в мире гвоздей.* * *
Мы разучились нищим подавать, Дышать над морем высотой соленой, В стречать зарю и в лавках покупать За медный мусор — золото лимонов. Случайно к нам заходят корабли, И рельсы груз проносят по привычке; Пересчитай людей моей земли И сколько мертвых встанет в перекличке. Но всем торжественно пренебрежем. Нож сломанный в работе не годится, Н о этим черным, сломанным ножом Разрезаны бессмертные страницы.* * *
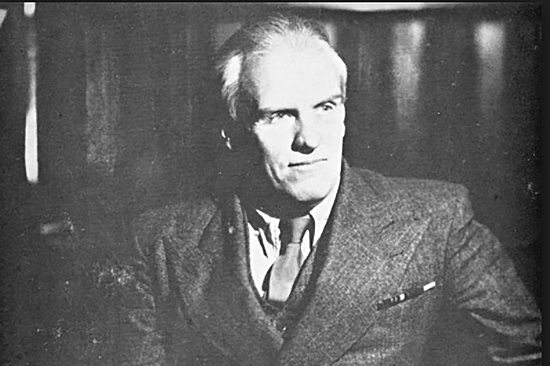 И сказал женщине суд:
«Твой муж — трус и беглец,
И твоих коров уведут,
И зарежут твоих овец».
А солдату снилась жена,
И солдат был сну не рад,
Но подумал: она одна,
И вспомнил, что он — солдат.
И пришел домой, как есть,
И сказал: «Отдайте коров
И овец иль овечью шерсть,
Я знаю всё и готов».
Хлеб, два куска
Сахарного леденца,
А вечером сверх пайка
Шесть золотников свинца.
И сказал женщине суд:
«Твой муж — трус и беглец,
И твоих коров уведут,
И зарежут твоих овец».
А солдату снилась жена,
И солдат был сну не рад,
Но подумал: она одна,
И вспомнил, что он — солдат.
И пришел домой, как есть,
И сказал: «Отдайте коров
И овец иль овечью шерсть,
Я знаю всё и готов».
Хлеб, два куска
Сахарного леденца,
А вечером сверх пайка
Шесть золотников свинца.
БАЛЛАДА О СИНЕМ ПАКЕТЕ
Локти резали ветер, за полем — лог, Человек добежал, почернел, лег. Лег у огня, прохрипел: «Коня!» И стало холодно у огня. А конь ударил, закусил мундштук, Четыре копыта и пара рук. Озеро — в озеро, в карьер луга. Небо согнулось, как дуга. Как телеграмма, летит земля, Ровным звоном звенят поля, Но не птица сердце коня — не весы, Оно заводится на часы. Два шага — прыжок, и шаг хромал, Человек один пришел на вокзал, Он дышал, как дырявый мешок. Вокзал сказал ему: «Хорошо». «Хорошо»,- прошумел ему паровоз И синий пакет на север повез. Повез, раскачиваясь на весу, Колесо к колесу — колесо к колесу, Шестьдесят верст, семьдесят верст, На семьдесят третьей — река и мост, Динамит и бикфордов шнур — его брат, И вагон за вагоном в ад летят. Капуста, подсолнечник, шпалы, пост, Комендант прост и пакет прост. А летчик упрям и на четверть пьян, И зеленою кровью пьян биплан. Ударило в небо четыре крыла, И мгла зашаталась, и мгла поплыла. Ни прожектора, ни луны, Ни шороха поля, ни шума волны. От плеч уж отваливается голова, Тула мелькнула — плывет Москва. Но рули заснули на лету, И руль высоты проспал высоту. С размаху земля навстречу бьет, Путая ноги, сбегался народ. Сказал с землею набитым ртом: «Сначала пакет — нога потом». Улицы пусты — тиха Москва, Город просыпается едва-едва. И Кремль еще спит, как старший брат, Но люди в Кремле никогда не спят. Письмо в грязи и в крови запеклось, И человек разорвал его вкось. Прочел — о френч руки обтер, Скомкал и бросил за ковер: «Оно опоздало на полчаса, Не нужно — я все уже знаю сам».Тихоновские баллады восхищали тогдашнего читателя предельным лаконизмом, драматически насыщенным сюжетом — тем, что сам поэт определил формулой -«баллады скорость голая».
Емкую характеристику Тихонову дал Веронский: «Дабы вынес человек страду битв, бесприютных ночлегов, злую даль переходов и переездов в походах и в свисте пуль, он должен […] сбиться во что-то простое и каленое, сделаться отважным и научиться презрению к смерти. Воронский увидел в лирике Тихонова апофеоз новой породы людей — «простых и крепких, как гвозди»».
Нетрудно увидеть в Тихонове ученика Николая Гумилева. Именно с Гумилевым пришел в русскую поэзию начала XX в. героический, волевой характер — воина, путешественника, или, как выразился Мандельштам, «мужа».
Тихонов развивал гумилевскую традицию на новом материале и в новой исторической ситуации. И это тоже было одним из слагаемых его литературного успеха. В «Орде» и «Браге» состоялась прививка романтизма постсимволистской выделки поэтическому мироощущению, рожденному опытом гражданской войны. Да и сам жанр баллады, выбранный Тихоновым, как нельзя лучше отвечал этой задаче.
Для персонажей тихоновских баллад нет ничего Невозможного. Герой «Песни об отпускном солдате» егерь Денисов Иван просит батальонного командира отпустить его проститься с умирающей женой. Командир обещает ему отпуск, но только после боя.
Кончается бой гибелью всего батальона: Батальонный не может исполнить данного обещания, потому что егерь мертв, но речь идет о чем-то большем, чем просто обещание, — о приказе по роте. А солдат, и будучи мертвым, не может не исполнить приказа командира, отправляющего его в отпуск.
Батальонный встал и сухой рукой Согнул пополам камыш. «Так отпустить проститься с женой, Она умирает, говоришь? Без тебя винтовкой меньше одной, Не могу отпустить. Погоди: Сегодня ночью последний бой. Налево кругом — иди!» …Пулемет задыхался, хрипел, бил, И с флангов летел трезвон, Одиннадцать раз в атаку ходил Отчаянный батальон. Под ногами утренних лип Уложили сто двадцать в ряд. И табак от крови прилип К рукам усталых солдат. У батальонного по лицу Красные пятна горят, Но каждому мертвецу Сказал он: «Спасибо, брат!» Рукою, острее ножа, Видели все егеря, Он каждому руку пожал, За службу благодаря. Пускай гремел их ушам На другом языке отбой, Но мертвых руки по швам Равнялись сами собой. «Слушай, Денисов Иван! Хоть ты уж не егерь мой, Но приказ по роте дан, Можешь идти домой». Умолкли все — под горой Ветер, как пес, дрожал. Сто девятнадцать держали строй, А сто двадцатый встал. Ворон сорвался, царапая лоб, Крича, как человек. И дымно смотрели глаза в сугроб Из-под опущенных век. И лошади стали трястись и ржать, Как будто их гнали с гор, И глаз ни один не смел поднять, Чтобы взглянуть в упор. Уже тот далёко ушел на восток, Не оставив на льду следа, Сказал батальонный, коснувшись щек: «Я, кажется, ранен. Да».Поэтому Иван Денисов встает — и идет: Сюжет ожившего мертвеца, столь традиционный для баллады, получает двойную мотивировку.
С одной стороны — фантастическую, уместную в романтическом жанре, с другой — реалистическую, поскольку все это происходит в сознании раненного человека, разгоряченного боем: Перед нами — метафора безграничных возможностей человека, охваченного волевым порывом. Для него нет ничего невозможного, ничего невероятного.
Желание, выраженное в слове, тут же материализуется в действие. За этим вставало восприятие революции как эпического состояния мира, в котором действуют не просто люди, но — герои.
Романтический пафос, однако, довольно быстро выветривался в новой общественно-исторической ситуации. Военный коммунизм сменялся нэпом, экстремальная ситуация — нормальным течением жизни.
На смену «страде битв» приходили будни, а вместе с нею исчезали романтическая цельность и простота лирического характера. Начинался мучительный поиск связи героики и быта, идеала и действительности. В лирику приходила психологическая сложность.
Так же как Николай Тихонов был выразителем простоты и цельности, Эдуард Георгиевич Багрицкий, бывший всего годом старше автора «Баллады о гвоздях», остро выразил настроение поколения, не нашедшего себя в эпоху нэпа:
От черного хлеба и верной жены Мы бледною немочью заражены… Копытом и камнем испытаны годы, Бессмертной полынью пропитаны воды, — И горечь полыни на наших губах… Нам нож — не по кисти, Перо — не по нраву, Кирка — не по чести И слава — не в славу: Мы — ржавые листья На ржавых дубах… Чуть ветер, Чуть север — И мы облетаем. Чей путь мы собою теперь устилаем? Чьи ноги по ржавчине нашей пройдут? Потопчут ли нас трубачи молодые? Взойдут ли над нами созвездья чужие? Мы — ржавых дубов облетевший уют… Бездомною стужей уют раздуваем… Мы в ночь улетаем! Мы в ночь улетаем! Как спелые звезды, летим наугад… Над нами гремят трубачи молодые, Над нами восходят созвездья чужие, Над нами чужие знамена шумят… Чуть ветер, Чуть север — Срывайтесь за ними, Неситесь за ними, Гонитесь за ними, Катитесь в полях, Запевайте в степях! За блеском штыка, пролетающим в тучах, За стуком копыта в берлогах дремучих, За песней трубы, потонувшей в лесах…Это была вариация на тему лермонтовской «Думы» с ее романтической неприкаянностью, с ее сознанием бесплодности духовного максимализма своего поколения. Так возникала ностальгическая ретроспектива гражданской войны — с одной стороны, и романтическая перспектива новой войны — с другой. Отчетливее всего — в стихотворении «Разговор с комсомольцем Николаем Дементьевым»:
На плацу, открытом С четырех сторон, Бубном и копытом Дрогнул эскадрон. Вот и закачались мы В прозелень травы Я — военспецом, Военкомом — вы.В «походной сумке» у военкома с военспецом не случайно оказывались стихи Тихонова — символ желанной простоты и цельности. Эстафета революционной романтики передавалась поэтом Багрицким поэту младшего поколения Николаю Дементьеву через пароль гражданской войны.
Но и в этом случае оставалась неизжитой нота горечи, прозвучавшая в процитированных выше стихах о «черном хлебе и верной жене». Она была по-прежнему продиктована ощущением конченности своего поколения. Багрицкий проигрывал в «Разговоре…» неудачный поход 1-й Конной на Польшу и — гибель своих героев:
Только ворон выслан Сторожить в полях. За полями Висла, Ветер да поляк. За полями ментик Вылетает в лог! Военком Дементьев, Саблю наголо! Проклюют навылет, Поддадут коленом, Голову намылят Лошадиной пеной. Степь заместо простыни Натянули — раз! — Добротными саблями Побреют нас.Обращение Багрицкого к Николаю Дементьеву было не случайным. Именно это поколение так называемых комсомольских поэтов входило в жизнь, остро ощущая противоречие между «поэзией» революции и «прозой» нэпа. В первую обойму этих поэтов входили имена Александра Ильича Безыменского, Александра Алексеевича Жарова, Иосифа Павловича Уткина, Михаила Аркадьевича Светлова.
Самым талантливым из них был Светлов. В его романтической «Гренаде», на многие десятилетия ставшей своего рода гимном комсомольской молодежи, воспроизводилась похожая ситуация — гибель молодого парнишки, отправившегося воевать ради неведомых ему испанских крестьян, то есть, в сущности, ради мировой революции.
Эта гибель — всего лишь заурядный эпизод гражданской войны («Отряд не заметил потери бойца»), однако она становится материалом для легенды, для песни. Так комсомольская поэзия делала свою заявку на создание героика-романтического мифа о гражданской войне.
ГРЕНАДА
Мы ехали шагом, Мы мчались в боях И «Яблочко»-песню Держали в зубах. Ах, песенку эту Доныне хранит Трава молодая — Степной малахит. Но песню иную О дальней земле Возил мой приятель С собою в седле. Он пел, озирая Родные края: «Гренада, Гренада, Гренада моя!» Он песенку эту Твердил наизусть… Откуда у хлопца Испанская грусть? Ответь, Александровск, И Харьков, ответь: Давно ль по-испански Вы начали петь? Скажи мне, Украйна, Не в этой ли ржи Тараса Шевченко Папаха лежит? Откуда ж, приятель, Песня твоя: «Гренада, Гренада, Гренада моя»? Он медлит с ответом, Мечтатель-хохол: — Братишка! Гренаду Я в книге нашел. Красивое имя, Высокая честь — Гренадская волость В Испании есть! Я хату покинул, Пошел воевать, Чтоб землю в Гренаде Крестьянам отдать. Прощайте, родные! Прощайте, семья! «Гренада, Гренада, Гренада моя!» Мы мчались, мечтая Постичь поскорей Грамматику боя — Язык батарей. Восход поднимался И падал опять, И лошадь устала Степями скакать. Но «Яблочко»-песню Играл эскадрон Смычками страданий На скрипках времен… Где же, приятель, Песня твоя: «Гренада, Гренада, Гренада моя»? Пробитое тело Наземь сползло, Товарищ впервые Оставил седло. Я видел: над трупом Склонилась луна, И мертвые губы Шепнули: «Грена…» Да. В дальнюю область, В заоблачный плес Ушел мой приятель И песню унес. С тех пор не слыхали Родные края: «Гренада, Гренада, Гренада моя!» Отряд не заметил Потери бойца И «Яблочко»-песню Допел до конца. Лишь по небу тихо Сползла погодя На бархат заката Слезинка дождя… Новые песни Придумала жизнь… Не надо, ребята, О песне тужить, Не надо, не надо, Не надо, друзья… Гренада, Гренада, Гренада моя!Духовная причастность к этой романтике сообщала лирическому герою комсомольской поэзии особый ореол. Однако романтический миф, как и всякий другой, выявлял свою вневременную, символическую природу. Он примыкал к таким же вневременным и символическим мифам романтически интерпретированного прошлого. Так происходило в стихотворении Михаила Светлова «Рабфаковке»:
Барабана тугой удар Судит утренние туманы,- Это скачет Жанна д’Арк К осажденному Орлеану. Двух бокалов влюбленный звон Тушит музыка менуэта,- Это празднует Трианон День Марии-Антуанетты. В двадцать пять небольших свечей Электрическая лампадка,- Ты склонилась, сестры родней, Над исписанною тетрадкой… Громкий колокол с гулом труб Начинают «святое» дело: Жанна д’Арк отдает костру Молодое тугое тело. Палача не охватит дрожь (Кровь людей не меняет цвета),- Гильотины веселый нож Ищет шею Антуанетты. Ночь за звезды ушла, а ты Не устала,- под переплетом Так покорно легли листы Завоеванного зачета. Ляг, укройся, и сон придет, Не томися минуты лишней. Видишь: звезды, сойдя с высот, По домам разошлись неслышно. Ветер форточку отворил, Не задев остального зданья, Он хотел разглядеть твои Подошедшие воспоминанья. Наши девушки, ремешком Подпоясывая шинели, С песней падали под ножом, На высоких кострах горели. Так же колокол ровно бил, Затихая у барабана… В каждом братстве больших могил Похоронена наша Жанна. Мягким голосом сон зовет. Ты откликнулась, ты уснула. Платье серенькое твое Неподвижно на спинке стула.Эти картины снятся девушке-рабфаковке, готовящейся к зачету по истории и уснувшей над учебником. Она сама — из того же племени бесстрашных романтических женщин, но только иной эпохи: Советская рабфаковка уравнена не только с роялисткой Жанной д’ Арк, но и с королевой Франции, казненной революционным народом. Романтическая сторона мифа перевешивает идеологическую и поглощает ее. Романтический идеал выражает в большей мере универсальные духовные ценности, чем классовые, и это перерастало в острейшую проблему.
Традиционное романтическое понимание революции было тесно связано с идеалом свободной и сильной личности. Но если Великая Французская революция, на которую оглядывались идеалистически настроенные «русские мальчики», совершалась во имя свободы личности, то пафосом большевистской революции, как точно заметил Г. Федотов, была не свобода, а «организация».
По его выражению, в «новом социализме» еще сохраняется «запах выдыхающейся эссенции» романтизма, но уже превалирует идея создания «нового порядка», отрицающего свободу личности. Силы, создающие этот порядок, писал Г. Федотов, тяготеют к «черно-красному стану фашизма». Романтический пафос поэзии 20-х годов, сталкиваясь с мощной тенденцией эпохи к тотальной регламентации, требовал выхода за пределы строго очерченных рамок революционной темы.
В. Каверин очень точно отметил полную политическую расплывчатость романтических баллад Тихонова, «содержание которых можно с равным успехом отнести и к белым, и к красным. В «Песне об отпускном солдате» речь идет о егерях — подобных стрелковых частей не было в Красной армии, а в царской были».
Этот аполитизм хорошо виден и по стихотворению Багрицкого «Контрабандисты», в котором романтическая свобода в равной мере представлена как одесскими контрабандистами, везущими «коньяк, чулки и презервативы», так и советскими пограничниками, преследующими их в штормовом море. Лирический герой Багрицкого утверждал их абсолютную равноценность и равнозначность:
По рыбам, по звездам Проносит шаланду: Три грека в Одессу Везут контрабанду. На правом борту, Что над пропастью вырос: Янаки, Ставраки, Папа Сатырос. А ветер как гикнет, Как мимо просвищет, Как двинет барашком Под звонкое днище, Чтоб гвозди звенели, Чтоб мачта гудела: «Доброе дело! Хорошее дело!» Чтоб звезды обрызгали Груду наживы: Коньяк, чулки И презервативы… Ай, греческий парус! Ай, Черное море! Ай, Черное море!.. Вор на воре! . . . . . . . . . . Двенадцатый час — Осторожное время. Три пограничника, Ветер и темень. Три пограничника, Шестеро глаз — Шестеро глаз Да моторный баркас… Три пограничника! Вор на дозоре! Бросьте баркас В басурманское море, Чтобы вода Под кормой загудела: «Доброе дело! Хорошее дело!» Чтобы по трубам, В ребра и винт, Виттовой пляской Двинул бензин. Ай, звездная полночь! Ай, Черное море! Ай, Черное море!.. Вор на воре! . . . . . . . . . . Вот так бы и мне В налетающей тьме Усы раздувать, Развалясь на корме, Да видеть звезду Над бугшпритом склоненным, Да голос ломать Черноморским жаргоном, Да слушать сквозь ветер, Холодный и горький, Мотора дозорного Скороговорки! Иль правильней, может, Сжимая наган, За вором следить, Уходящим в туман… Да ветер почуять, Скользящий по жилам, Вослед парусам, Что летят по светилам… И вдруг неожиданно Встретить во тьме Усатого грека На черной корме… Так бей же по жилам, Кидайся в края, Бездомная молодость, Ярость моя! Чтоб звездами сыпалась Кровь человечья, Чтоб выстрелом рваться Вселенной навстречу, Чтоб волн запевал Оголтелый народ, Чтоб злобная песня Коверкала рот, — И петь, задыхаясь, На страшном просторе: «Ай, Черное море, Хорошее море..!»Маяковский не случайно негодовал по поводу этих стихов — их романтика казалась ему — и совершенно справедливо — самодовлеющей. Багрицкий абсолютно укладывался в список, им самолично определенный: «А в походной сумке — / Спички и табак, / Тихонов, / Сельвинский, / Пастернак».
Здесь не хватает лишь Луговского, и это странновато, поскольку они оба ходили в конструктивистах. Идеологию ЛЦК (Литературный центр конструктивистов) Багрицкий разделить не мог органически: там американствовали, видя будущее России на интеллектуально-механизированном западном пути (см. статью А.Гольдштейна «ЛЦК: поход на обломовский табор» в его книге «Расставание с Нарциссом»). Но и по обозначенному им ряду ясно, что кружковщина ему чужда.
Именно эта условная эклектика делала Багрицкого учителем новых поколений. Нелишне напомнить, что он, Багрицкий, в упорных спорах с оппонентами первым поддержал — Твардовского, о чем тот помнил и говорил всю жизнь. Таков его путь: от раннего стихотворения «Маяковскому» до помощи Твардовскому. Маяковский и Твардовский — стиховые антиподы. Такова амплитуда Багрицкого. Он любил эпитет «широкий». Это про него. В 28-м году Сталин, готовя великий перелом, сворачивал нэп, а Багрицкий издал книгу «Юго-Запад».
Требовалась социалистическая литература — Багрицкий демонстративно открывает книгу «Птицеловом», перлом аполитизма. Следом — «Тиль Уленшпигель». Затем — «Песня о Рубашке», «Джон Ячменное зерно», «Разбойник»: Юго-Запад, как название книги, явно смещается в сторону Запада. Получается не черноморский юго-запад, но Юг плюс Запад.
Но это совершенно обрусевший Запад: Багрицкий перепереводил Гуда, Бернса и Вальтера Скотта с уже готовых переводов М.Михайлова и И.Козлова, выполненных в начале и середине XIX века. Он не получил регулярного образования, выход на мировую литературу проложив сквозь литературу отечественную.
Есть в такой методике оттенок некоего одесского авантюризма, надо сказать. Недаром он любил Рембо, которого, кстати, перевел при помощи А.Штейнберга. Западничество Багрицкого в некоторой мере, опять-таки, одесского толка: это стиховое порто-франко, открытый город, плавильная печь народов, недаром «Контрабандисты» поначалу назывались «Греки».
Романтики революции не могли не чувствовать, что нэп нес с собой мощную волну циничного приспособления к революционной идеологии. Время рождало ловкачей и догматиков. Идеалисты либо перерождались, либо вытеснялись на периферию.
В 1934 г. М.Светлов признавался:
Я боюсь докладчиков страны —Мне их громкий пафос не по силам.
С революционным пафосом было, действительно, неладно — он звучал все фальшивее и фальшивее. Революция как лирическая тема к середине десятилетия выявила свою мучительную проблематичность.
Юрий Тынянов в 1924 г. пустил в ход слово «промежуток» (так называлась его обзорная статья о лирике), а Борис Пастернак в 1926 г. сказал, что «стихи не заражают больше воздуха» и потому «приходится быть объективным, от лирики переходить к эпосу».
Эпос предполагал отказ от прямого лирического пафоса, давая надежду на обретение дистанции по отношению к главному событию эпохи — Революции. Он нес с собой анализ и объективность. Середина и вторая половина 20-х гг. проходят под знаком бурного оживления жанра поэмы, которому отдали дань практически все крупные лирики: «Владимир Ильич Ленин» (1924) и «Хорошо!» (1927) В. В. Маяковского, «Песнь о великом походе» и «Анна Снегина» С.А. Есенина, «1905 год» (1926) и «Лейтенант Шмидт» (1927) Б.Л. Пастернака, «Семен Проска-ков» (1928) Н.Н. Асеева, «Улялаевщина» (1927) и «Пушторг» (1929) И. (К.) Л. Сельвинского. В данном случае мы остановимся на «Думе про Опанаса» (1926) Эдуарда Багрицкого — произведении весьма и весьма характерном.
Багрицкий коснулся в этой поэме одной из наиболее драматичных страниц гражданской войны. Его «Дума про Опанаса» перекликается с «Пугачевым» Сергея Есенина и «Тихим Доном» Михаила Шолохова. Организованные в годы военного коммунизма продотряды, насильно изымавшие у деревни хлеб, заставляли крестьян отвечать на это повстанческим движением, которое в зависимости от обстановки «блокировалось то с красными, то с белыми» и представляло собою «третью силу».
 Одним из крупнейших лидеров такого движения был Нестор Махно. Именно так называемая махновщина и послужила материалом для поэмы Багрицкого.
Одним из крупнейших лидеров такого движения был Нестор Махно. Именно так называемая махновщина и послужила материалом для поэмы Багрицкого.
Ее главный герой — украинский мужик Опанас, не желая грабить своих, бежит из продотряда, которым командует комиссар Коган.
Опанас вообще не хочет воевать, намереваясь вернуться к исконному крестьянскому труду, но попадает в плен к Махно, который предлагает ему выбор:
А тебе дорога вышла Бедовать со мною. Повернешь обратно дышло — Пулей рот закрою.Опанас становится махновцем и — преображается. Теперь на нем
Шуба с мертвого раввина Под Гомелем снята. …………………. Френч английского покроя Добыт за Вапняркой. ………………… Револьвер висит на цепке От паникадила.Но самое главное, что обретает Опанас, — это воля. Он вспоминает, что его предки были запорожцами, что придает герою поэмы романтический колорит. Герой поэмы настолько внутренне близок автору, что становится едва ли не его двойником. Современники вспоминали, что при чтении поэмы Багрицкий с особой проникновенностью произносил строки, в которых звучало объединяющее «мы»:
«Опанасе, наша доля Машет саблей ныне». ………………. «Опанасе, наша доля Туманом повита».У героя и автора оказывается общая судьба. Когда в плен к Махно попадает Коган, Опанасу приказано его расстрелять. И вот тогда он понимает, что несвободен от насилия и крови, что дарованная ему воля — ловушка:
Он грустит, как с перепоя, Убивать не хочет.Сама природа обвиняет его в том, что он собирается убить безоружного человека, то есть, в сущности, стать палачом:
За волами шел когда-то, Воевал солдатом… Ты ли в сахарное утро В степь выходишь катом? И, раскинутая в плясе, Голосит округа: — Опанасе, Опанасе! Катюга, катюга!Потомок запорожцев, хлебнувший воли, оказывается бандитом:
Шли мы раньше в запорожцы, А теперь в бандиты.Романтический герой Багрицкого становится маргиналом. Нечто подобное позже опишет Б. Пильняк в нашумевшей повести «Красное дерево». Романтик образца 1918 г. Иван Ожогов собирает в подвале завода всех, кто сохранил в себе революционный пафос, — «коммунистов призыва военного коммунизма и роспуска тысяча девятьсот двадцать первого года».
Они такие же маргиналы, как и Опанас. Гражданская война ими проиграна. Полвека спустя похожий конфликт повторится в лирике Высоцкого, где опоздавшие на войну мальчишки предпочтут уголовную романтику тоскливой «ремеслухе»: «И вот ушли романтики / Из подворотен ворами».
Трезвое эпическое исследование романтического «я» открывало сложность, которой не было у балладных героев Тихонова или Ванька-красноармейца Демьяна Бедного.
Выбор между «белыми» и «красными» оборачивался нравственным насилием над свободной душой романтики, которая в равной степени оказывалась неприкаянной по обе стороны баррикад. В стихотворении «ТВС» (1929) Багрицкий попытался преодолеть эту мучительную ситуацию волевым усилием:
ТВС
Пыль по ноздрям — лошади ржут. Акации сыплются на дрова. Треплется по ветру рыжий джут. Солнце стоит посреди двора. Рычаньем и чадом воздух прорыв, Приходит обеденный перерыв. Домой до вечера. Тишина. Солнце кипит в каждом кремне. Но глухо, от сердца, из глубины, Предчувствие кашля идет ко мне. И сызнова мир колюч и наг: Камни — углы, и дома — углы; Трава до оскомины зелена; Дороги до скрежета белы. Надсаживаясь и спеша донельзя, Лезут под солнце ростки и Цельсий. (Значит: в гортани просохла слизь, Воздух, прожарясь, стекает вниз, А снизу, цепляясь по веткам лоз, Плесенью лезет туберкулез.) Земля надрывается от жары. Термометр взорван. И на меня, Грохоча, осыпаются миры Каплями ртутного огня, Обжигают темя, текут ко рту. И вся дорога бежит, как ртуть. А вечером в клуб (доклад и кино, Собрание рабкоровского кружка). Дома же сонно и полутемно: О, скромная заповедь молока! Под окнами тот же скопческий вид, Тот же кошачий и детский мир, Который удушьем ползет в крови, Который до отвращенья мил, Чадом которого ноздри, рот, Бронхи и легкие — все полно, Которому голосом сковород Напоминать о себе дано. Напоминать: «Подремли, пока Правильно в мире. Усни, сынок». Тягостно коченеет рука, Жилка колотится о висок. (Значит: упорней бронхи сосут Воздух по капле в каждый сосуд; Значит: на ткани полезла ржа; Значит: озноб, духота, жар.) Жилка колотится у виска, Судорожно дрожит у век. Будто постукивает слегка Остроугольный палец в дверь. Надо открыть в конце концов! «Войдите».- И он идет сюда: Остроугольное лицо, Остроугольная борода. (Прямо с простенка не он ли, не он Выплыл из воспаленных знамен? Выпятив бороду, щурясь слегка Едким глазом из-под козырька.) Я говорю ему: «Вы ко мне, Феликс Эдмундович? Я нездоров». …Солнце спускается по стене. Кошкам на ужин в помойный ров Заря разливает компотный сок. Идет знаменитая тишина. И вот над уборной из досок Вылазит неприбранная луна. «Нет, я попросту — потолковать». И опускается на кровать. Как бы продолжая давнишний спор, Он говорит: «Под окошком двор В колючих кошках, в мертвой траве, Не разберешься, который век. А век поджидает на мостовой, Сосредоточен, как часовой. Иди — и не бойся с ним рядом встать. Твое одиночество веку под стать. Оглянешься — а вокруг враги; Руки протянешь — и нет друзей; Но если он скажет: «Солги»,- солги. Но если он скажет: «Убей»,- убей. Я тоже почувствовал тяжкий груз Опущенной на плечо руки. Подстриженный по-солдатски ус Касался тоже моей щеки. И стол мой раскидывался, как страна, В крови, в чернилах квадрат сукна, Ржавчина перьев, бумаги клок — Всё друга и недруга стерегло. Враги приходили — на тот же стул Садились и рушились в пустоту. Их нежные кости сосала грязь. Над ними захлопывались рвы. И подпись на приговоре вилась Струей из простреленной головы. О мать революция! Не легка Трехгранная откровенность штыка; Он вздыбился из гущины кровей, Матерый желудочный быт земли. Трави его трактором. Песней бей. Лопатой взнуздай, киркой проколи! Он вздыбился над головой твоей — Прими на рогатину и повали. Да будет почетной участь твоя; Умри, побеждая, как умер я». Смолкает. Жилка о висок Глуше и осторожней бьет. (Значит: из пор, как студеный сок, Медленный проступает пот.) И ветер в лицо, как вода из ведра. Как вестник победы, как снег, как стынь. Луна лейкоцитом над кругом двора, Звезды круглы, и круглы кусты. Скатываются девять часов В огромную бочку возле окна. Я выхожу. За спиной засов Защелкивается. И тишина. Земля, наплывающая из мглы, Легла, как неструганая доска, Готовая к легкой пляске пилы, К тяжелой походке молотка. И я ухожу (а вокруг темно) В клуб, где нынче доклад и кино, Собранье рабкоровского кружка.1929
Удержать романтическую цельность можно было только через жертвенное подчинение себя целям эпохи, что приводило к необходимости убивать. Более того — заставляло принимать эту необходимость как личный долг. И потому из романтического пафоса грозил улетучиться его нравственный смысл. Идеология в «ТВС» так же отрицала «романтику», как романтика в «Контрабандистах» отрицала идеологию.
А на пороге уже стояла сталинская эпоха, которая возвращала страну к методам гражданской войны и утверждала их как основной способ движения в будущее.
Методы военного коммунизма, снова заявившие о себе в конце 20-х годов, оборачивались насилием над эмоциональным, духовным строем романтической личности. Революция как поэтическая тема поворачивалась опасной стороной, поскольку предъявляла романтику чудовищные императивы: «Солги», «Убей». Для поэзии это было самоубийственно.
В 1927 году опубликованы лучшие вещи той эпохи — «Контрабандисты» Багрицкого и «Зависть» Олеши.
Мне кажется, в «Последней ночи» Багрицкий дает портрет Олеши:
«Он молод был, этот человек, Он юношей был еще, — В гимназической шапке с большим гербом, В тужурке, сшитой на рост… Лоб, придавивший собой глаза, Был не по-детски груб, И подбородок торчал вперед, Сработанный из кремня».Причудливым образом этот юный ночной одессит сливается с Гаврилой Принципом, убившим эрцгерцога, начав Первую мировую.
В «Зависти» — гибель поэта, у Багрицкого — победа поэта. Это принципиальная разница. В «Контрабандистах» — дух нэпа, предпринимательского риска, все той же авантюры, и тут стоит заметить, что Багрицкий не выносил нэп как таковой, считал его свалкой иллюзий, потерей знамен, провалом и крахом, но вот он, механизм романтизма: купля-продажа становится предметом вдохновения певца, антибуржуазного в корне. Купля-продажа, покрытая всеми стихиями мироздания.
«Так бей же по жилам, Кидайся в края, Бездомная молодость, Ярость моя!»Так побеждает поэт.
В не столь давней статье В.Шохиной приведено высказывание Бахыта Кенжеева о Багрицком: «Фашист, конечно!.. Но какой поэт!» Здесь Бахыт на первый взгляд смыкается с уже очень давним выступлением Ст.Куняева в ЦДЛ насчет Багрицкого, его пресловутой кровожадности (ко всему прочему негативу).
Да, это Багрицкому (впрочем, не совсем ему…) принадлежат такие слова: «Но если он скажет: «Солги», — солги. / Но если он скажет: «Убей», — убей». Говорит Дзержинский. Уязвимо? Еще бы.
Романтический поэт, как уже сказано, позволяет себе расстояние между собой и действительностью. В действительности Э.Г.Дзюбин (Багрицкий) ходил в Персию в составе царской армии на должности делопроизводителя, затем он состоял агитатором уже в Красной Армии — словом, шашкой не махал. Эдуард Багрицкой писал:
«Нас водила молодость В сабельный поход, Нас бросала молодость На кронштадтский лед».Две большие разницы, как говорят в Одессе. В стихотворении «ТБС» Дзержинский учит жизни — «Убей», «Солги» — туберкулезника: сей больной и есть авторское «я». Багрицкий (Дзюбин) страдал астмой, не ТБС. Здесь больше Достоевского, чем, скажем, Бернса. Некая помесь Раскольникова с Белинским. Ролевой элемент самодовлеет.
Поэт не отказывается от функции рупора. Он больше, чем поэт. А это — грех. Это, чаще всего, — крах. Только огромный талант, истинность призвания могут спасти больше-чем-поэта от забвения и позора. Багрицкий — этот случай.
Если всмотреться в «Разговор с комсомольцем Н.Дементьевым», — Багрицкий оперирует полной чепухой, плоско и неубедительно защищая позиции романтики, его оппонент абсолютно прав, и вообще непонятно, каким боком, скажем, пришит к революционной эмблематике — Пастернак. Он-то тут при чем? Но местами этот стишок неотразим — и про Тихонова, Сельвинского и Пастернака, и про то, что «Десять лет разницы — / это пустяки!» Тут никуда не деться, стало поговоркой.
Нынче другими глазами читаешь и эти строки: «Покачусь, порубан, Растянусь в траве, Привалюся чубом К русой голове…» — другими глазами, поскольку знаешь, что Дементьев в скором будущем — 1935 — покончит с собой, что Багрицкий уйдет тоже очень скоро — 1934, через семь лет после написания этого «Разговора…», и еще не совсем ясно, отчего это случилось.
Уместно напомнить — Пастернак пронзительно оплакал Дементьева: «Безвременно ушедшему». Кстати. Пастернак удивительно ответил Багрицкому. Он взял его строчку из «Тиля Уленшпигеля», почти не переиначив: «И, прислонясь к дверному косяку», — для своего «Гамлета»: «Гул затих. Я вышел на подмостки, Прислонясь к дверному косяку…»
У Багрицкого — бестемье? Ровно наоборот — монотемье. «Я Тиля Уленшпигеля пою!» — намеренно повторяет он и во второй книге «Победители», по видимости посвященной персонажам строящегося социализма: механикам, чекистам, рыбоводам.
У него и ветеринар есть, специалист по случке быка с коровой. К своему читателю поэт относится весьма добродушно:
«Прочтет стишок, Оторвет листок, Скинет пояс — И под кусток».Работа на понижение — борьба с романтикой, столь нравящейся сытому критику из соответствующего стихотворения, «Вмешательство поэта». Под углом этой борьбы надо рассматривать идущее следом «ТБС».
Еще никто почему-то не заметил, что Дзержинский тут — призрак самой болезни, фантомная боль, припадок, больной бред. Вот же все это, написано черным по белому:
«Жилка колотится у виска, Судорожно дрожит у век. Будто постукивает слегка Остроугольный палец о дверь. Надо открыть в конце концов! «Войдите». — И он идет сюда: Остроугольное лицо, Остроугольная борода».Его монолог — вербализация туберкулеза, запредельное, чахлое, исступленное слово умершей романтики. «Умри, побеждая, как умер я».
Свое «ТБС» Багрицкий побивает своими же «Веселыми нищими», полнокровной песней о пьянстве, блуде и свободе. Это все, что осталось у него от романтического арсенала. Взяв за основу перевод П.Вейнберга, он пишет своими, размашистыми, жирными (любимый эпитет) мазками.
Стоит сравнить его с Маршаком. «Не помня горя и забот, Ласкал он побирушку, А та к нему тянула рот, Как нищенскую кружку», — очень складно, ровно и гладко сочиняет Маршак. А вот смачный, одесско-портовый образчик речи: «Красотка не очень красива, Но хмелем по горло полна, Как кружку прокисшего пива, Свой рот подставляет она».
Нелишне отметить и самые последние строчки «Победителей» — рефрен из заключительной песни «Веселых нищих»: «— Королевским законам Нам голов не свернуть!» Писано в 28-м году. Поэтика подцензурного намека существовала всегда. У Маршака ничего подобного нет.
«Мир переполнен твоей тоской. / Буксы отстукивают: на кой?» На рубеже 20—30-х годов он зафиксировал это состояние души и эпохи. В воспеватели современности такой бард не годится. «Как я одинок!..» В «Происхождении» он, кажется, впервые заговаривает о еврействе.
Мандельштам уже написал «Шум времени», хаос иудейский, 1923—1924. Обоих поэтов (плюс Пастернак) можно было бы назвать по-нынешнему ассимилянтами, кабы не их рывок в сторону всего мира, больше космополитического, нежели интернационалистского. Ребенок родился таким и в таких обстоятельствах:
«Над колыбелью ржавые евреи Косых бород скрестили лезвия. И все навыворот. Все как не надо. Стучал сазан в оконное стекло; Конь щебетал; в ладони ястреб падал; Плясало дерево. И детство шло».Изначальный мир сказки. «Его опресноками иссушали. / Его свечой пытались обмануть. / К нему в упор придвинули скрижали, / Врата, которые не распахнуть…» К тяжелому камню скрижалей прибавляется голый практицизм: «Меня учили: крыша — это крыша. / Груб табурет. Убит подошвой пол». В результате — «еврейское неверие мое».
Поэма «Февраль» осталась в черновиках. Но внутренне она дописана. Там сказано все, что может сказать поэт. Ее посмертная публикация обнаружила, какого громадного поэта потеряла русская литература. «Февраль» трудно цитировать, поскольку даже ее гениальный финал может зависнуть, не поддержанный всей словесной массой предшествующего текста, композиционной конструкцией, прихотливым ходом ассоциативной мысли, смещением и слиянием планов, виртоузно-естественной полиметрией (дольник, анапест, дактиль, хорей вперемешку), монтажом эпизодов, портретной живописью персонажей, обилием точнейших деталей, общей пластикой, живым и острым дыханием моря, побережья, акаций, ласточек, всем историческим фоном происходящего.
Багрицкий рисковал, сделав акцент на еврейском лейтмотиве и коде.
«Я беру тебя за то, что робок Был мой век, за то, что я застенчив, За позор моих бездомных предков, За случайной птицы щебетанье».Но поэма вся состоит из беспощадных крайностей. Достаточно лишь этого сюжета: превращение лучезарной гимназистки в портовую шлюху. Все перевернулось. Случился Февраль. Как ни странно, «Февраль» отдаленно, но напрямую напоминает есенинскую «Анну Снегину»: там и там действуют дезертиры.
Но у Есенина — и это еще более странно — вышла повесть о любви высокой и чистой, у Багрицкого — любовь, исполненная грязи, срама, смрада, мести, отчаяния и — это самое странное! — надежды: «Будут ливни, будет ветер с юга, Лебедей влюбленное ячанье».
ПРОИСХОЖДЕНИЕ
Я не запомнил — на каком ночлеге
Пробрал меня грядущей жизни зуд.
Качнулся мир.
Звезда споткнулась в беге
И заплескалась в голубом тазу.
Я к ней тянулся… Но, сквозь пальцы рея,
Она рванулась — краснобокий язь.
Над колыбелью ржавые евреи
Косых бород скрестили лезвия.
И все навыворот.
Все как не надо.
Стучал сазан в оконное стекло;
Конь щебетал; в ладони ястреб падал;
Плясало дерево.
И детство шло.
Его опресноками иссушали.
Его свечой пытались обмануть.
К нему в упор придвинули скрижали —
Врата, которые не распахнуть.
Еврейские павлины на обивке,
Еврейские скисающие сливки,
Костыль отца и матери чепец —
Все бормотало мне:
— Подлец! Подлец!—
И только ночью, только на подушке
Мой мир не рассекала борода;
И медленно, как медные полушки,
Из крана в кухне падала вода.
Сворачивалась. Набегала тучей.
Струистое точила лезвие…
— Ну как, скажи, поверит в мир текучий
Еврейское неверие мое?
Меня учили: крыша — это крыша.
Груб табурет. Убит подошвой пол,
Ты должен видеть, понимать и слышать,
На мир облокотиться, как на стол.
А древоточца часовая точность
Уже долбит подпорок бытие.
…Ну как, скажи, поверит в эту прочность
Еврейское неверие мое?
Любовь?
Но съеденные вшами косы;
Ключица, выпирающая косо;
Прыщи; обмазанный селедкой рот
Да шеи лошадиный поворот.
Родители?
Но, в сумраке старея,
Горбаты, узловаты и дики,
В меня кидают ржавые евреи
Обросшие щетиной кулаки.
Дверь! Настежь дверь!
Качается снаружи
Обглоданная звездами листва,
Дымится месяц посредине лужи,
Грач вопиет, не помнящий родства.
И вся любовь,
Бегущая навстречу,
И все кликушество
Моих отцов,
И все светила,
Строящие вечер,
И все деревья,
Рвущие лицо,—
Все это встало поперек дороги,
Больными бронхами свистя в груди:
— Отверженный!
Возьми свой скарб убогий,
Проклятье и презренье!
Уходи!—
Я покидаю старую кровать:
— Уйти?
Уйду!
Тем лучше!
Наплевать!