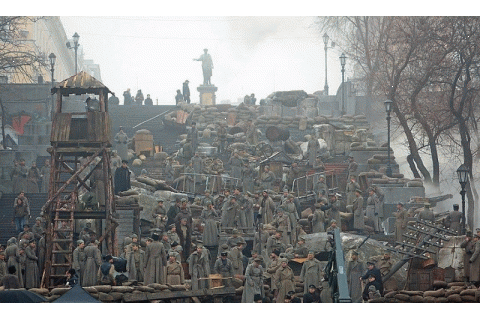 Знаете, что самое интересное в этих обзорах фильма «Солнечный удар»? А те кинематографические аллюзии, которые у критиков возникают в момент написания рецензии.
Знаете, что самое интересное в этих обзорах фильма «Солнечный удар»? А те кинематографические аллюзии, которые у критиков возникают в момент написания рецензии.
Известных сцен из чужих фильмов Михалков наставил настолько много, неуместно и безвкусно, что не заметить их нельзя. А все же такой фильм — это не театральный капустник.
Подобные прямые заимствования на уровне «А я тоже смотрел этот фильм!» — никто уже не станет воспринимать каким-то «философским намеком» типа «для избранных».
Советские времена канули в Лету, сегодня и цитирование Нагорной проповеди непременно напомнит о каком-то известном сюжете из рекламы… к примеру зубной пасты.
А вот обращение к творчеству самого Маэстро отчего-то ограничивается ассоциацией с названием фильма «Утомленные солнцем» — и дальше вся ретроспектива обрубается ничего не значащей фразой «и всеми другими фильмами Никиты Михалкова».
А если к другим фильмам других режиссеров, то вдруг начинается упоительный бред про «Титаник», Квентина Тарантино и прочее. А к каким другим-то?..
Но размышления о «других» фильмах начисто сносится очередным «кадром из классики». Надо отметить, что кинематографических штампов в фильме «Солнечный удар» — подозрительно много. Большинство их них вполне ожидаемо, из области ожидаемого вопроса: если вы — «великий режиссер», то почему не вы не сняли «Титаник»? Здесь уже и ответ готов: снял бы я «Титаник», да вы мне с историей подгадили!
Наименее ожидаемый штамп — с Эйзенштейновской коляской на одесской лестнице. Такого, конечно, от Никиты Сергеевича не ожидал никто, поскольку люди вокруг — воспитанные, не привыкли заранее думать о ком-то подобное.
Такого рода «широкие жесты» — это проявление цинизма в отношении трагических событий в Одессе 2 мая. И деятель искусств такой величины, как Михалков, — должен чувствовать личную ответственность, что не предотвратил трагедии своим творчеством. Ведь он же не думает, будто кино снимается «просто так», «для развлечения»? Тогда следует заметить, что киношедевры вроде «Елок-палок» развлекли нас не в пример больше и без пустопорожних сентенций.
Следует напомнить Маэстро, что коляску «нафантазировал» в популистских соображениях сам Сергей Эйзенштейн, оправдывая нехитрую (противоположную нынешним) мысль про «потерянную Россию» — мол, потеряли, да и черт с ней! Надо, мол, было такое потерять!
Кинолента «Броненосец Потемкин» первоначально называлась «1905 год». Это фильм о событиях первой русской революции: бои на Пресне, всероссийская железнодорожная стачка, митинг на броненосце «Потемкин». В июле 1925 года съемки начались в Москве, затем группа переехала в Ленинград. Но испортилась погода, и работы пришлось прекратить. Съемочная группа простаивала, наблюдая за балтийскими тучами, а время шло. Тогда директор 1-й Московской кинофабрики Михаил Капчинский сказал: «Это не дело. Поезжайте-ка в мою родную Одессу — там солнце вам еще послужит, я за него ручаюсь». Через три дня Эйзенштейн со своими сотрудниками уже были в Одессе. Кстати, по сценарию восстанию на «Потемкине» отводилось 42 кадра из 762 — всего три-четыре минуты.
— Направляясь в Одессу, Эйзенштейн вынашивал прежде всего план будущей постановки картины «Беня Крик» по сценарию его большого друга Исаака Бабеля, — рассказал «ФАКТАМ» член Международной гильдии кинокритиков Евгений Женин. — По мнению Эйзенштейна, бабелевский текст как никакой иной наполнен зримой, кинематографически-объемной образностью. Режиссер хотел сделать кино о реальном человеке в настоящей одесской обстановке. А заодно (именно так, заодно) «подснять эпизодик» к фильму «1905 год».
Одним из ассистентов Эйзенштейна был Максим Штраух, его гимназический товарищ, ставший замечательным советским артистом. Собирая материалы о революции 1905 года, Штраух нашел в библиотеке французский журнал, где карандаш очевидца запечатлел расстрел в районе Одесского порта. И тут Эйзенштейна осенило: лучше всего связать на экране одесситов с мятежным броненосцем может лестница. Огромная одесская лестница! И впрямь, где найдешь короче путь от центра города к порту?!
Дальнейшее стало исключительно плодом творческой фантазии гениального кинематографиста. Достаточно сказать, что эпизода с лестницей в постановочном сценарии вообще нет. Большинство историков кино утверждали, что фильм был снят без сценария, на одном дыхании, по вдохновению. Одним словом, «Броненосец Потемкин» возник абсолютно случайно: благодаря бабелевским настроениям режиссера и устойчивой питерской непогоде.
Киновед Георгий Островский вспоминал: «Эйзенштейн ходил по лестнице, присматриваясь к прохожим, мысленно перенося их в события 1905 года, а потом в 38-м номере гостиницы «Лондонская», где он жил вместе со Штраухом, вписывал все новые и новые детали». Режиссер рассказывал, что встретил на лестнице молодую женщину, которая катила по ступеням коляску с ребенком. Эйзенштейна поразила мысль: ведь такая молодая мать с коляской могла идти по лестнице в дни революции. И если бы она выпустила из рук коляску… От начала и до конца придуманная режиссером история была воплощена в кадры: топот сапог по ступеням, катящаяся коляска с ребенком, трагедия безногого человека в этом сплошном, мгновенно возникшем аду…
Для Эйзенштейна был важен не актер, а типаж — человек, обладавший подходящими внешними данными. Любопытно в этом плане объявление, размещенное 13 сентября 1925 года в «Одесских известиях»: «Для съемок требуются натурщики по следующим признакам: 1. Женщина лет 27-ми, еврейка, брюнетка, высокого роста, слегка худая, большого темперамента. 2. Мужчина 30-40 лет, высокий, широкоплечий, большой физической силы, с добродушным широким русским лицом, «дядя». 3. Мужчина, рост и лета безразличны, тип упитанного обывателя, наглое выражение лица, белобрысый, желателен дефект в построении глаз. Являться в контору экспедиции: Одесса, ул. Карла Маркса, Ь 1, ежедневно от 5-6 часов вечера. Последний день явки — 21 сентября».
Эйзенштейн придирчиво отбирал исполнителей, даже если они появлялись в кадре на несколько мгновений. Так было и с пробами на роль мальчика в страшной сцене: его застрелили на лестнице, и по его телу пронеслась обезумевшая толпа.
Первый юный актер-любитель не мог справиться со сложной ролью, и тогда его заменил другой мальчик — отважный вратарь дворовой команды. Он бесстрашно падал на зеленоватый камень ступеней и становился объектом сложных, тщательно продуманных съемок.
Чтобы запечатлеть знаменитые кадры ребенка в коляске, летэевшей по лестнице, камеру тоже пустили вниз. Объектив работал сам, без оператора. Внизу аппарат ловили, подставив руки. А чтобы снять ноги, топтавшие тело ребенка, бегущий опирался всей тяжестью своего тела на брус, поддерживаемый двумя ассистентами вне поля действия объектива. Человек осторожно перебирал ногами, едва касаясь подошвами ребенка. Снимали только ноги, и в кадре был виден затоптанный в панике мальчонка.
Ребенок, который потряс с экрана весь мир, стал впоследствии доктором физико-математических наук, профессором, директором Научно-исследовательского института физики Одесского государственного (ныне национального) университета. Это Аба Ефимович Глауберман.
Но вот как рассматривают подобный плагиат (поскольку эпизод был изначально лживым, пропагандистским, не исторически) — большинство зрителей.
Эпизод с коляской относится к методам открытого кинематографического давления на зрителей, его не было в действительности! Это откровенная манипуляция общественным сознанием.
Владислав Смилевский Коляска съезжающая с лестницы… Где-то я это видел…
Константин Кокушкин Потом будет «Солнечный удар. Предстояние» и «Солнечный удар. Цитадель»
Саша Серов звенящая пошлость
Татьяна Барковская бедный Бунин:((((
Лена Цадиков после его выступлений не хочется смотреть его фильмы,личность человека много объясняет.
Надо было действительно обладать «большим темпераментом», чтобы прогуливаться с коляской в толпе 1905 года на лестнице в Одессе. Все думал, почему мне противно смотреть фильмы Сергея Эйзенштейна? А вот из-за таких «придумок» и «фантазий» — с непременной сиюминутной идеологической ангажированностью.
То есть, уже в случае Сергея Эйзенштейна мы имеем дело с попыткой переписать историю, усилить какие-то оправдания одной из сторон. Нынче это называется — «усилить доказательную базу обвинения«. И уже, честно говоря, достало.
А в особенности, конечно, после того, что случилось второго мая этого года в Одессе… Да и «Окаянные дни» Бунина — были написаны все-таки не в Севастополе, а в Москве и Одессе.
Но ведь и «Окаянные дни» Бунин писал в Одессе. Точнее, вначале в Москве, затем в Одессе. А в настоящем искусстве Время и Место имеют особую роль. Не стоит лгать, будто что-то поменялось именно сегодня, когда прямо на уровне правительства призывают «иностранных инвесторов» (интервентов) и сдают все завоевания за чирик с изюмом, чтоб своим не досталось.
А Михалков отчего-то решил присобачить «Окаянные дни» — непосредственно к Крыму! Но такая путаница у Маэстро не в первый раз, верно?
Как присобачить к «Окаянным дням» — «Солнечный удар», в природе известно, конечно, одному Никите Сергеичу. Как и многое другое. Он у нас — во всем горазд.
Какая у всех свирепая жажда их [большевиков] погибели! Нет той самой страшной библейской казни, которой мы не желали бы им. Если б в город ворвался хоть сам дьявол и буквально по горло ходил в их крови, половина Одессы рыдала бы от восторга.
Лжи столько, что задохнуться можно. Все друзья, все знакомые, о которых прежде и подумать бы не смел, как о лгунах, лгут теперь на каждом шагу. Ни единая душа не может не солгать, не может не прибавить и своей лжи, своего искажения к заведомо лживому слуху. И все это от нестерпимой жажды, чтобы было так, как нестерпимо хочется. Человек бредит, как горячечный, и, слушая этот бред, весь день все-таки жадно веришь ему и заражаешься им. Иначе, кажется, не выжил бы и недели. И каждый день это самоодурманивание достигает особой силы к вечеру,— такой силы, что ложишься спать точно эфиром опоенный, почти с полной верой, что ночью непременно что-нибудь случится, и так неистово, так крепко крестишься, молишься так напряженно, до боли во всем теле, что кажется, не может не помочь Бог, чудо, силы небесные.
Засыпаешь, изнуренный от того невероятного напряжения, с которым просишь об их погибели, и за тысячу верст, в ночь, в темноту, в неизвестность шлешь всю свою душу к родным и близким, свой страх за них, свою любовь к ним, свою муку, да сохранит и спасет их Господь,— и вдруг вскакиваешь среди ночи с бешено заколотившимся сердцем: где-то трах-трах-трах, иногда где-то совсем близко, точно каменный град по крышам,— вот оно, что-то таки случилось, кто-то, может быть, напал на город — и конец, крах этой проклятой жизни! А наутро опять отрезвление, тяжкое похмелье, кинулся к газетам,— нет, ничего не случилось, все тот же наглый и твердый крик, все новые «победы». Светит солнце, идут люди, стоят у лавок очереди… и опять тупость, безнадежность, опять впереди пустой долгий день, да нет, не день, а дни, пустые, долгие, ни на что не нужные! Зачем жить, для чего? Зачем делать что-нибудь? В этом мире, в их мире, в мире поголовного хама и зверя, мне ничего не нужно…
«У нас совсем особая психика, о которой будут потом сто лет писать». Да мне-то какое утешение от этого? Что мне до того времени, когда от нас даже праху не останется? «Этим записям цены не будет». А не все ли равно? Будет жить и через сто лет все такая же человеческая тварь,— теперь-то я уж знаю ей цену!
Утешенье, конечно, слабое. Но пишут-пишут-пишут и писать не устают об этой «особой психике». Так ведь и вспоминается Шариков из «Собачьего сердца» Булгакова М.А.: «Психика у меня добрая!»
Нынче — та же ложь, та же попытка быть самым правым посреди крови, из которой брода не предусмотрено. Самой время — подсочинить к рассказику Бунина — подходящий антураж
И нисколько не стоило сомневаться, что писанина Михалкова поверх Ивана Бунина — таки найдет своих… этих самых. Толкователей на тему «зачем он написал это слово на выкрашенной стенке в музее?»
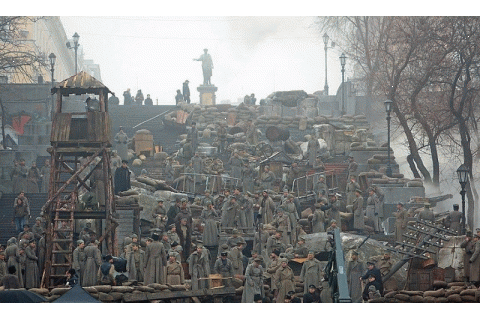
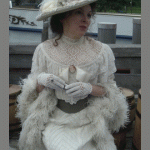

2 комментария
Ее безжалостному молоху.
Стремительный домкратом.
Символизируется — чем? — работой, а не в работе.
Неучи, неучи, неучи. Нет от них спасения.
Михалков — воровской холуй, корчащий из себя блаароднаа. Меня от одного вида его усатого визажа тошнит.