Ирина Дедюхова
14 февраля 2014 г. ·
Хотел, значит, Виталий Комар немного подшутить на Генералиссимусом, а ничего не получилось! Полотно «Сталин и музы» написано в хорошем таком социалистическом реализме. Музы пришли вручать Прекрасному Иосифу Виссарионовичу валентинку, а того и подкладочка кителя бирюзовенькая… хорош, орелик! Музы, чувствуется, робеют. Эт понятно!
Известно, что товарищ Сталин был «большой ученый», но он при этом не чурался и искусства, причем, не только кино и театра, но очень уважал/обожал оперу. Отчего-то расцвет высоких искусств выпадает на его эпоху? Интересно почему?
Наверное, потому, что время великих свершений (которое тоже по странному стечению обстоятельств выпало на время его правления?!) требует неординарных личностей, причем в больших количествах. Неординарность — вещь не простая, требующая организации вокруг себя тоже некоей сложности (и в жизни, и в быту). Отсюда, воспитание на лучших образцах, имевшихся тогда уже у человечества, искусства и культуры.
К таковым, сами понимаете, относится и наиболее сложный (и в восприятии, и в исполнении) синтетический и условный , но зато монументальный, жанр оперы.
Так вот, интересно же узнать, как всё было? С тех пор прошло много времени, современников практически не осталось, есть только мемуары. Массовый читатель (в моём лице) впервые познакомился с данной темой по книжке Галины Вишневской ещё тогда, в перестройку или чуть позже. С тех пор много воды утекло. Интересно перечитать уже сейчас, что называется, другими глазами. И эти другие глаза уже видят не столько то, что хотела сказать Галина Павловна, а, надеюсь, нечто большее. Знаете, это так любопытно узнавать мнение деятелей культуры, полагающих себя мыслителями и носителями непререкаемого авторитета. Они как-то «забыли», что последним обязаны исключительно советской цензуре, которая не позволяла информировать общественность об их личной жизни без придания оной официозного глянца. Посему публика держала наших артистов и художников (в широком смысле слова) за приличных людей. В отличие от нонешнего времени, когда современный уже глянец не вывалил на наши головы всю их подноготную. Сами понимаете, что с авторитетом теперь стало гораздо проблематичнее. Особенно поражает (с нехорошими интонациями) моральный облик публичных фигур.
Поэтому почитаем, что там Галина Вишневская понаписала про товарища Сталина. Есть возможность немного похихикать над её оценочными суждениями и видением реальности. А что делать? Коньюктура тогда в 80-х и 90-х была именно такой. Впредь другим мемуаристам наука — побольше фактов, поменьше оценок.
Сталин лично опекал театр. Ходил он, в основном, на оперы, и поэтому лучшие певцы участвовали в операх «Князь Игорь», «Садко», «Хованщина», «Борис Годунов», «Пиковая дама». Это вечный «золотой фонд» Большого театра; всё в тех же постановках они идут из года в год — до сих пор, никогда не сходя с афиши. Каждой из них по 35–40 лет.
Театр никогда не знал материальных затруднений — государство не жалеет никаких денег на свою рекламу. Декорации и костюмы стоят миллионы рублей, потому что в создании их на пятьдесят процентов применяется ручной труд — из-за отсутствия нужных материалов, машин и т. д. Народ гордится своим театром и не отдает себе отчета в том, что сам платит за его содержание. Конечно, — не Сталин же из своего кармана платит за все эти соборы и избы чуть ли не в натуральную величину, полностью загромождающие сцену.
В сталинское время было очень важно выходить на сцену. Каждый артист берег себя и обязательно пел спектакль, если его имя стояло в афише. Императорский театр! — в нем важно появляться не только ради искусства, но и для своего положения в стране, в глазах народа. Все мечтали выступить перед Сталиным, понравиться ему, и Сталин не жалел ничего для артистов Большого театра. Сам установил им высокие оклады, щедро награждал их орденами и сам выдавал им Сталинские премии. Многие артисты имели по две-три Сталинские премии, а то и пять, как Баратов.
В этом первом моем сезоне 1952/53 года Сталин бывал несколько раз на оперных спектаклях, и я помню атмосферу страха и паники в дни его посещений. Известно это становилось всегда заранее. Всю ночь охрана осматривала каждый уголок театра, сантиметр за сантиметром; артисты, не занятые в спектакле, не могли войти в театр даже накануне, не говоря уже о дне спектакля. Участникам его выдавались специальные пропуска, и, кроме того, надо было иметь с собой паспорт. С уже объявленной афиши в этих случаях дирекция могла снять любого, самого знаменитого артиста и заменить его другим, в зависимости от вкуса Великого. Вслух, конечно, никто не обижался, принимали это как должное. И только каждый старался угодить на вкус советского монарха, попасть в любимчики, чтобы таким вот образом быть всенародно отмеченным за счет публичного унижения своего же товарища. Эти замашки крепостного театра сохранялись еще долго после смерти Сталина.
Сталин сидел всегда в ложе «А» — если стоять в зале лицом к сцене, слева, над оркестром, скрытый от глаз публики занавеской, и только по количеству охранников в штатском да по волнению и испуганным глазам артистов можно было догадаться, что в ложе сидит Сам. И до сегодняшнего дня — когда глава правительства присутствует на спектакле, подъезд публики к театру на машинах запрещен. Сотни сотрудников КГБ окружают театр, артистов проверяют несколько раз: первая проверка, в дверях входа, — это не наша охрана, а КГБ, надо предъявить спецпропуск и паспорт. Потом, когда я загримировалась и иду на сцену, я снова должна показать пропуск (если в зале особо важные персоны). Конечно, во всех кулисах на сцене полно здоровенных мужиков в штатском. Бывают затруднения чисто технические — куда девать пропуск, особенно артистам балета? Они же почти голые! Хоть к ноге привязывай, как номерок в общей бане.
Любил ли Сталин музыку? Нет. Он любил именно Большой театр, его пышность, помпезность; там он чувствовал себя императором. Он любил покровительствовать театру, артистам — ведь это были его крепостные артисты, и ему нравилось быть добрым к ним, по-царски награждать отличившихся. Вот только в царскую — центральную — ложу Сталин не садился. Царь не боялся сидеть перед народом, а этот боялся и прятался за тряпкой. В его аванложе (артисты ее называли предбанником) на столе всегда стояла большая ваза с крутыми яйцами — он их ел в антрактах. Как при Сталине, так и теперь, когда на спектакле присутствуют члены правительства, в оркестровой яме рядом с оркестрантами сидят кагебешники — в штатском, разумеется.
Были у него в театре любимые артисты. Очень он любил Максима Дормидонтовича Михайлова в роли Ивана Сусанина в опере Глинки «Жизнь за царя». В советское время она называется «Иван Сусанин». Он часто ходил на эту оперу — наверное, воображал себя царем, и приятно ему было смотреть, как русский мужик за него жизнь отдает. Он вообще любил монументальные спектакли. В расчете на него их и ставили — с преувеличенной величавостью, с ненужной грандиозностью и размахом, короче, со всеми признаками гигантомании. И артисты со сцены огромными, мощными голосами не просто пели, а вещали, мизансцены были статичны, исполнители мало двигались — все было более «значительно», чем требовало того искусство. Театр ориентировался на личный вкус Сталина. И не в том дело, хорош у него был вкус или плох, но, когда Сталин умер, театр потерял ориентир, его начало швырять из стороны в сторону, он стал попадать в зависимость от вкусов множества случайных людей.
Любимицами Сталина были сопрано Наталия Шпиллер и меццо-сопрано Вера Давыдова — обе красивые, статные; они часто пели на банкетах.
Наталья Шпиллер Чёрный веер
Вера Давыдова Vera Davydova Эх, могуча наша сила! 1951 год
Сталину приятно было покровительствовать таким горделивым, полным достоинства русским женщинам. Бывать в их обществе, произносить тосты, поучать или отечески журить их — как государь. Но все его симпатии не избавляли никого от его самодурства. Однажды на банкете в Кремле, где пели обе соперничавшие между собой красавицы, Сталин после концерта во всеуслышание сказал Давыдовой, указывая пальцем на Шпиллер:
— Вот у кого вам надо учиться петь. У вас нет школы.
Думаю, что этим не слишком «изящным» замечанием он отнял у Давыдовой несколько лет жизни. Но ведь батюшка-барин. С крепостной девкой разговаривает.
Замечательный дирижер С. А. Самосуд, многие годы проработавший в Большом театре, рассказывал мне, как однажды он дирижировал оперным спектаклем, на котором присутствовало все правительство. В антракте его вызвал к себе в ложу Сталин. Не успел он войти в аванложу, как Сталин без лишних слов заявил ему:
— Товарищ Самосуд, что-то сегодня у вас спектакль… без бемолей!
Самуил Абрамович онемел, растерялся — может, это шутка?! Но нет — члены Политбюро, все присутствующие серьезно кивают головами, поддакивают:
— Да-да, обратите внимание — без бемолей…
Хотя были среди них и такие, как Молотов, например, — наверняка понимавшие, что выглядят при этом идиотами…
Самосуд ответил только:
— Хорошо, товарищ Сталин, спасибо за замечание, мы обязательно обратим внимание.
Интересная история была с оперой «Евгений Онегин». Действие последней картины происходит ранним утром, и Татьяна — по Пушкину — должна быть в утреннем туалете:
Княгиня перед ним одна
Сидит неубрана, бледна,
Письмо какое-то читает
И тихо слезы льет рекой,
Опершись на руку щекой.
Так оно и было, пока не пришел однажды на спектакль Сталин. Увидев на Татьяне легкое утреннее платье — и Онегина перед нею, — он воскликнул:
— Как женщина может появиться перед мужчиной в таком виде?!
С тех пор — и до сего дня! — Татьяна в этой сцене одета в вишневое бархатное платье и причесана, как для визита.
На Пушкина в данном случае ему было наплевать. Одеть — и кончено! Хоть в шубу!
Но все же для Большого театра он был «добрым царем». Любил пригласить артистов к себе на пьянку, и бывший протодьякон Михаилов в таких случаях громовым голосом пел ему «Многая лета».
Репрессии и чистки 1937 года почти не коснулись Большого театра, во всяком случае его ведущих артистов. Это был театр Сталина. Но он допускал в него и простых смертных с улицы и, наверное, гордился своим великодушием — считал себя покровителем прекрасных искусств.
Почему он любил бывать именно в опере? Видимо, это доступное искусство давало ему возможность вообразить себя тем или иным героем, и особенно русская опера, с ее историческими сюжетами и пышными костюмами, давала пищу фантазии. Вероятно, не раз, сидя в ложе и слушая «Бориса Годунова», мысленно менял он свой серый скромный френч на пышное царское облачение и сжимал в руках скипетр и державу.
Когда Сталин присутствовал на спектакле, все артисты очень волновались, старались петь и играть как можно лучше — произвести впечатление: ведь от того, как понравишься Сталину, зависела вся дальнейшая жизнь. В особых случаях великий вождь мог вызвать артиста к себе в ложу, и удостоить чести лицезреть себя, и даже несколько слов подарить. Артисты от волнения — от величия момента! — совершенно немели, и Сталину приятно было видеть, какое он производит впечатление на этих больших, талантливых певцов, только что так естественно и правдиво изображавших на сцене царей и героев, а перед ним распластавшихся от одного его слова или взгляда, ожидающих подачки, любую кость готовых подхватить с его стола. И хотя он давно привык к холуйству окружающих его, но особой сладостью было холуйство людей, отмеченных Божьим даром, людей искусства. Их унижения, заискивания еще больше убеждали его в том, что он не простой смертный, а божество.
И. В. Сталин в сопровождении охраны идет по площади Свердлова из Большого театра с заседания XVI съезда ВКП (б). Москва, 26 июня 1930 г. (РГАСПИ. Ф. 422 Оп. 1. Д. 422. Л. 6. Фото 69)
Говорил он очень медленно, тихо и мало. От этого каждое его слово, взгляд, жест приобретали особую значительность и тайный смысл, которых на самом деле они не имели, но артисты потом долгое время вспоминали их и гада ли, что же скрыто за сказанным и за «недоговоренностью». А он просто плохо владел русским языком и речью. Вероятно, он, как актер, уже давно набрал целый арсенал выразительных средств, безотказно действовавших на приближенных, и применял их по обстоятельствам.
На всех портретах, во всех скульптурах, в любых изображениях он выглядит этаким богатырем, и даже видевшие его в жизни, стоявшие рядом с ним верили, что этот низенький человек — гораздо выше и больше, чем им кажется. Сталинская повадка и стиль перешли на сцену Большого театра. Мужчины надевали ватные подкладки, чтобы расширить грудь и плечи, ходили медленно, будто придавленные собственной «богатырской» тяжестью. (Все это мы видим и в фильмах сталинской эпохи.) Подобного рода постановки требовали и определенных качеств от исполнителей: стенобитного голоса и утрированно выговариваемого слова. Исполнителям надо было соответствовать дутому величию, чудовищной грандиозности оформления спектаклей, их преувеличенному реализму: всем этим избам в натуральную величину, в которых спокойно можно было жить; соборам, построенным на сцене, как на городской площади, — с той же основательностью и прочностью. Сегодня эти постановки, потеряв исполнителей, на которых были рассчитаны, производят жалкое, смешное впечатление. Нужно торопиться увидеть их, пока они еще не сняты с репертуара, не переделаны, — это интереснейшее свидетельство эпохи — как и несколько высотных зданий-монстров, оставленных Сталиным на память о себе «благодарным» потомкам.
Я никогда не слышала, чтобы кто-нибудь усомнился в правоте его, в правомерности его действий, и, когда началось знаменитое «дело врачей-убийц», все удивлялись (во всяком случае, вслух), что раньше сами не распознали в этих хорошо знакомых им, артистам, кремлевских врачах врагов народа.
Пётр Селиванов / Selivanov — Ария Елецкого («Пиковая дама»)
Шли последние недели правления злого гения. Последний оперный спектакль, на котором он был в Большом театре, — «Пиковая дама» Чайковского. Артист, исполнявший партию Елецкого, П. Селиванов, выйдя во втором акте петь знаменитую арию и увидев близко от себя сидевшего в ложе Сталина, от волнения и страха потерял голос. Что делать? Оркестр сыграл вступление и… он заговорил: «Я вас люблю, люблю безмерно, без вас не мыслю дня прожить…» — да так всю арию до конца в сопровождении оркестра и проговорил! Что с ним творилось — конечно, и вообразить невозможно, удивительно, как он не умер тут же на сцене. За кулисами и в зале все оцепенели. В антракте Сталин вызвал к себе в ложу директора театра Анисимова, тот прибежал ни жив, ни мертв, трясется… Сталин спрашивает:
— Скажите, кто поет сегодня князя Елецкого?
— Артист Селиванов, товарищ Сталин.
— А какое звание имеет артист Селиванов?
— Народный артист Российской Советской Федеративной Социалистической Республики…
Сталин выдержал паузу, потом сказал:
— Добрый русский народ!..
И засмеялся — сострил!.. Пронесло!
Счастливый Анисимов выскочил из «предбанника». На другой день вся Москва повторяла в умилении и восторге «гениальную» остроту вождя и учителя. А мы, артисты, были переполнены чувством любви и благодарности за великую доброту и человечность нашего Хозяина. Ведь мог бы выгнать из театра провинившегося, а он изволил только засмеяться, наш благодетель!.. Да, велика была вера в его высокую избранность, его исключительность, и когда он умер, кинулся народ в искреннем горе в Москву, чтобы быть всем вместе, ближе друг к другу… Тогда перекрыли железные дороги, остановили поезда, чтобы не разнесло Москву это людское море. Я плакала со всеми вместе. Было ощущение, что рухнула жизнь, и полная растерянность, страх перед неизвестностью, паника охватила всех. Ведь тридцать лет вся страна слышала только — Сталин, Сталин, Сталин!..
«Если ты, встретив трудности, вдруг усомнишься в своих силах — подумай о нем, о Сталине, и ты обретешь нужную уверенность. Если ты почувствовал усталость в час, когда ее не должно быть, — подумай о нем, о Сталине, и усталость уйдет от тебя… Если ты замыслил нечто большое — подумай о нем, о Сталине, — и работа пойдет споро… Если ты ищешь верное решение — подумай о нем, о Сталине, и найдешь это решение».
«Правда» от 17 февраля 1950 года.
На войне умирали «за родину, за Сталина», вдруг умер ОН — который, казалось бы, должен жить вечно и думать за нас, решать за нас.
Сталин уничтожил миллионы невинных людей, разгромил крестьянство, науку, литературу, искусство… Но вот он умер, и рабы рыдают, с опухшими от слез лицами толпятся на улицах… Как в опере «Борис Годунов», голодный народ голосит:
На кого ты нас покидаешь, отец наш?
На кого ты нас оставляешь, родимый?..
По улицам Москвы из репродукторов катились, волны душераздирающих траурных мелодий…
Всех сопрано Большого театра в срочном порядке вызвали на репетицию, чтобы петь «Грезы» Шумана в Колонном зале Дома союзов, где стоял гроб с телом Сталина. Пели мы без слов, с закрытыми ртами — «мычали». После репетиции всех повели в Колонный зал, а меня не взяли — отдел кадров отсеял: новенькая, только полгода в театре. Видно, доверия мне не было. И мычать пошло проверенное стадо.
В эти же дни, когда страна замерла и все застыло в ожидании страшных событий, кто-то, проходя по коридору в театре, бросил:
— Сергей Прокофьев умер…
Весть пролетела по театру и повисла в воздухе как нереальность: кто умер? Не мог еще кто-то посметь умереть. Умер только один Сталин, и все чувства народа, все горе утраты должно принадлежать только ему.
Сергей Прокофьев умер в тот же день, что и Сталин, — 5 марта 1953 года. Не дано ему было узнать благой вести о смерти своего мучителя.
Московские улицы были перекрыты, движение транспорта остановлено. Невозможно было достать машину, и огромных трудов стоило перевезти гроб с телом Прокофьева из его квартиры в проезде Художественного театра в крошечный зал в полуподвальном помещении Дома композиторов на Миусской улице для гражданской панихиды.
Все цветочные оранжереи и магазины были опустошены для вождя и учителя всех времен и народов. Не удалось купить хоть немного цветов на гроб великого русского композитора. В газетах не нашлось места для некролога. Все принадлежало только Сталину — даже прах затравленного им Прокофьева. И пока сотни тысяч людей, часто насмерть давя друг друга, рвались к Колонному залу Дома союзов, чтобы в последний раз поклониться сверхчеловеку-душегубу, на Миусской улице, в мрачном, сыром полуподвале, было почти пусто — только те из близких и друзей, кто жил неподалеку или сумел прорваться сквозь кордоны заграждений. А Москва в истерике и слезах хоронила великого тирана…
Со смертью великого покровителя кончилась целая эпоха в истории Большого театра. Ушел гений, ушло божество, и после него пришли просто люди.
Сталин и Большой Театр. (Из мемуаров Галины Вишневской)
Как вам интонация данного повествования? Мне она во многом напоминает ту инфантильность мышления, которую нам сейчас наша творческая интеллигенция демонстрирует всячески, подхватив жалобы и стоны К.Райкина. Как тут лишний раз не убедиться в мудрости царя Соломона: «Что было, то и есть, что есть, то и будет»…
Весь мир крутится только возле великих певцов и актеров, они пуп вселенной, не сметь их принижать (сарказм). Прям, так и хочется напомнить им о графе Шереметеве.
И ещё раз хочется напомнить, что слава у массового зрителя была (начиная со сталинских времен) за счет проводимой целенаправленной государственной политики в весьма определенных государственных целях. Которую (славу ту самую) обеспечивали на государственном уровне и гастролями, и радио- (в дальнейшем теле-) трансляциями, участием в многочисленных государственных концертах. Опять же повторю, что авторитет творческой интеллигенции поддерживался строгой цензурой, не допускавшей желтизну в средства массовой информации.
Ведь «весь советский народ» был убежден в наличии у деятелей культуры высокого морального авторитета, которым они норовят пользоваться до сих пор, не заметив, что утеряли оный вместе с государством, который им го обеспечивал, а собственный что-то заработать не сильно получается, его же не на корпоративах выдают.
Играй, паскуда, пой, покаНе удавили!Слова: В. Высоцкий
Уж Галина Павловна могла бы сравнить положение дел у нас и там на «далеком Западе». Возможность-то предоставили.
Это у нас в стране опера была высоким искусством для всех. Оперные хиты старшее поколение знало наравне с эстрадными шлягерами. Насколько иначе обстоит с этим жанром в остальном мире, можно судить, хотя бы, по фильмам «Красотка» и «Крестный отец».
Да, в силу своей дороговизны, жанр адресован к состоятельно, так сказать, элитарной публике. Конечно же делаются попытки к «демократизации» и расширению аудитории, особенно в случае бюджетного финансирования.
Но популярность оперных исполнителей не сопоставима с исполнителями попсовой культуры. Даже мировая слава Марии Каллас была в большей степени сопряжена с её скандальной связью с Онасисом.
Хотя, конечно, сейчас, что называется, «легко судить»…
Но, всё же, почему такое предвзятое мнение об Иосифе Виссарионыче у артистки жанра, который был всячески обласкан вождем, о чем сама певица вынуждена упоминать и в этом насквозь негативном по отношению к Сталину тексте. По всей видимости, столь болезненное личное отношение при том, что лично её никак не коснулось, обусловлено знакомством и сотрудничеством с Д.Д. Шостаковичем.
Исполнение партии Катерины Измайловой в его опере «Леди Макбет Мценского уезда» было значимым событием в творческой жизни Галины Вишневской.
Эта опера не была воспринята Иосифом Виссарионовичем. Она была запрещена к показу. Данной истории посвящено множество материалов. Поэтому, хотелось бы ознакомиться с ними поподробнее. Например вот с таким:
Опубликовано в журнале: Знамя2004, 8
Сталин и Шостакович: случай «Леди Макбет Мценского уезда»
Об авторе
Соломон Волков — культуролог и музыковед, с 1976 г. живет в Нью-Йорке. Он автор первой всеобъемлющей “Истории культуры Санкт-Петербурга”; также выпустил переведенные на многие языки книги разговоров с композитором Дмитрием Шостаковичем, балетмейстером Джорджем Баланчиным, поэтом Иосифом Бродским и скрипачом Наумом Мильштейном (глава из этой книги была опубликована в “Знамени”, 1998, № 11). За книгу о Шостаковиче С. Волков был удостоен американской премии имени Димса Тэйлора.
Публикуемый здесь текст войдет в новую книгу С. Волкова “Шостакович и Сталин: художник и царь”.
Здесь и далее будет попытка разобраться в происшедшем. Автор (С.Волков) предложит вниманию читателей множество фактов и описание ситуации. Но попытка проанализировать будет вестись с позиции личного уровня, слегка затрагивая общественный. При этом будет присутствовать перечисление общеизвестных обстоятельств, сложившихся на государственном уровне, поставленные на оном задачи и имеющиеся проблемы, но все они автором и представителями описываемой среды пренебрегаются.
И вот тут хотелось бы поговорить о среде творческой интеллигенции. События развиваются в стране, пережившей ужасы революции и гражданской войны. Когда были совершены чудовищные вещи, произошли страшные события, нарушились человеческие связи. Страну требовалось восстановить и подготовить к грядущим не менее ужасным испытаниям. Стояли грандиозные задачи, требовались колоссальные усилия. Нужно было налаживать жизнь людей в новых условиях.
Для выполнения поставленных задач требовались огромные объединенные усилия множества людей. В чем-то вынужденный коллективизм, следствием чего являлось совместное обще-житие (жизнь сообща). Такое бытие несовместимо с разнузданностью, культивировавшейся во времена революции и позже. Да и любое большое совместное дело невозможно без соблюдения нравственных основ в этом самом трудовом коллективе. Поэтому укрепление семьи и брака стало насущной государственной задачей. Об этом автор следующего материала вполне ясно говорит, но отчего-то не видит в данном обстоятельстве причину последовавшей реакции на отвергнутую оперу.
Ситуация напоминает нынешнюю с этим пресловутым выступление К.Райкина. Творцы не видят причин возмущаться всеми остальнымы демонстрируемой ими (творцами) вседозволенности. В случае оперы приводятся примеры с «Травиатой» и «Кармен», где показаны представительницы маргинальной среды, что в своё время шокировало и взламывало, актуальные на тот момент в обществе моральные устои и социальные границы.
На момент 1936 года постановка «Леди Макбет Мценского уезда», воспевавшую любовь и оправдывающую всё произошедшее (а именно, убийство) любовью, товарищ Сталин посчитал недопустимым. Это обидело и возмутило творческую среду.
Если «Кармен» и «Травиата» доказывали существование высоких помыслов и чувств у людей любой, даже маргинальной, среды, взламывая сословные предрассудки, и доказывали, что любой человек способен на проявление прекрасного и достойного. А вот в случае с оперой Шостаковича шло оправдание самого низменного в человеке, так сказать, …любовью. И ладно бы просто чего-то грязного и мерзкого. Нет, речь идет о том, что за свою «любовь» можно забрать чужие жизни. То, что Лесков рассматривал, как чудовищнейшее проявление греха, подается в «Леди Макбет Мценского уезда» как, всего лишь, трагические обстоятельства несостоявшегося личного счастья…
Да, тогда (в 1936 году) у И.В.Сталина имелся ресурс, позволявший такое прекратить и не позволить за государственный счет подобным образом самовыражаться.
Ах! это обидело творческую среду. До сих пор забыть не могут. Они не в состоянии сопрячь свои личные хотелки с государственным уровнем. На общественный суд они выносят плоды своих личных переживаний, которые почему-то не всеми положительно воспринимаются. Потому, что не все такие нарциссические эгоцентрики. Многим такое не понять, поскольку реальность предъявляет к остальным более жесткие требования бытия.
Это были мои собственные соображения/впечатления по поводу. Но следует же и сам «повод» почитать. Там много текста, поэтому пока только часть…
С начала 1930-х годов Сталин, вступив в общение со сливками отечественной элиты, успешно провел несколько важных идеологических операций. Он перехитрил и вынудил к сотрудничеству ряд крупнейших творческих фигур. Вождю должно было казаться, что он великолепно разбирается в их психологии и умеет ловко и тонко поставить их на службу своим интересам.
В таком настроении Сталин вступал в 1936 год, на который он запланировал, среди прочих неотложных дел, еще одну ответственную кампанию в области культуры: искоренение ненавистного ему “формализма”, то есть искусства переусложненного, непонятного массам и бесполезного при реализации амбициозных сталинских идей культурного строительства.
Согласно сталинским расчетам, эта кампания тоже должна была пройти хорошо и гладко. Но неожиданно приключилась обидная накладка, виновником которой стал молодой композитор Дмитрий Шостакович, до того в орбиту пристального внимания Сталина не входивший, и его опера “Леди Макбет Мценского уезда”.
Одним из самых загадочных эпизодов творческой истории Шостаковича является выбор им сюжета для этой оперы, второй по счету после “Носа”. Дело в том, что очерк Николая Лескова “Леди Макбет Мценского уезда”, впервые появившийся в 1865 году в журнале Достоевского “Эпоха”, вовсе не принадлежал к числу признанных или хотя бы заметных произведений русской классики. Первые шестьдесят с лишним лет после своей публикации этот очерк фактически не обсуждался. Перелом обозначился в 1930 году, когда в Ленинграде вышло иллюстрированное издание этого произведения. Рисунки были сделаны умершим к этому времени знаменитым художником Борисом Кустодиевым. Считается, что именно это издание привлекло внимание 24-летнего Шостаковича.
Отношение композитора к Кустодиеву было особым: он впервые пришел в дом художника подростком в 1918 году и стал там своим, почти членом семьи. Над иллюстрациями к Лескову Кустодиев начал работать еще в начале 20-х годов, но издание тогда не осуществилось. Недавно открылся секрет: помимо “легитимных” иллюстраций, художник рисовал и многочисленные эротические вариации на тему “Леди Макбет”, для печати не предназначенные. После его смерти, опасаясь обысков, семья поспешила уничтожить эти рисунки.
Если предположить, что юный Шостакович тогда видел эти “нескромные” наброски, то многое проясняется в генезисе его второй оперы, в которой эротика, секс — одна из заметнейших тем. Ведь в очерке Лескова эротики никакой нет. Но Шостакович, глядя на опубликованные “легитимные” иллюстрации Кустодиева, вполне мог припомнить его гораздо более откровенные зарисовки. Быть может, они-то и зажгли его воображение.
Как раз в это время бурно развивались отношения композитора с его будущей женой Ниной Варзар, весьма независимой, гордой и сильной женщиной. Опера “Леди Макбет Мценского уезда”, законченная Шостаковичем в конце 1932 года, посвящена именно Нине; их брак был зарегистрирован за семь месяцев до этого.
Галина Серебрякова вспоминала, что в своей опере Шостакович “жаждал по-новому воссоздать тему любви, любви, не признающей преград, идущей на преступление, внушенной, как в гетевском “Фаусте”, самим дьяволом”. Серебрякова считала, что героиня Лескова (как и Нина Варзар?) поразила композитора неистовством своей страсти. Может быть; но сначала напомним читателям о сюжете оперы, весьма мрачном и фаталистическом.
В глухой русской провинции, в богатой купеческой семье Измайловых томится и тоскует за нелюбимым мужем Катерина. В отсутствие мужа она увлекается новым работником Сергеем. Их выследил свекр, но Катерина устраняет его, подсыпав крысиного яда в пищу. Когда вернувшийся муж застает Сергея в спальне Катерины, любовники убивают и его, а тело прячут в погреб.
Катерина и Сергей торопятся со свадьбой, но их настигает рок в лице пьяного “задрипанного мужичка”, случайно обнаружившего труп в погребе. Полиция хватает молодоженов: теперь им дорога в Сибирь, вместе с партией каторжников. В Сибири, на берегу озера разыгрывается финал этой мелодрамы. Сергей охладел к Катерине и приударяет за разбитной каторжанкой Сонеткой. В отчаянии Катерина бросается в озеро, увлекая за собой Сонетку. А каторжане продолжают свой бесконечный путь:
Эх вы, степи необъятные,
Дни и ночи бесконечные,
Наши думы безотрадные
И жандармы бессердечные…
Либретто, как мы видим, довольно точно воспроизводит сюжетные перипетии очерка Лескова, но Шостакович (как это было и в “Носе”) радикально трансформирует центральный характер. Лесков к своей Катерине относится с ужасом. У него она еще и мешающего ей ребеночка-наследника душит. Шостакович это убийство выкинул, и не случайно: его задача — оправдать Катерину.
На одном из обсуждений оперы, когда Шостаковичу сказали: “Вашу оперу следовало бы назвать не “Леди Макбет…”, а “Джульетта…” или “Дездемона Мценского уезда”, — композитор с этим охотно согласился. Партия Катерины в опере единственная лишена и тени гротеска и издевки.
Шостакович дал своей опере подзаголовок “трагедия-сатира”. В опере “трагедия” — это Катерина, “сатира” — все остальное. Без сомнения, Катерина — это во многом портрет жены Шостаковича Нины, какой ее в тот момент видел композитор. Шостакович в чем-то повторил известную ситуацию вокруг “Евгения Онегина” Чайковского. Только там Чайковский вообразил, что его невеста Антонина Милюкова — это пушкинская Татьяна. А теперь Шостакович сознательно придал черты своей любимой Нины оперной героине.
Все его дальнейшие путаные объяснения по поводу столь неожиданного и кардинального преображения образа Катерины, с отсылками к “Грозе” Островского в интерпретации Добролюбова (“луч света в темном царстве”) — лишь рационализация задним числом интуитивного и импульсивного творческого акта. Здесь Шостакович, что называется, заметал следы.
Но, разумеется, разлитая в музыке оперы обжигающая эротика бросалась, если так можно выразиться, в уши. Она была особенно приметной на фоне с давних пор присущей русской культуре сдержанности при отображении сексуальной стороны любовных чувств. Эта традиционная сдержанность в сталинские времена была усугублена все более строгими цензурными установками.
“Поцелуйный звук для них страшнее разрыва снаряда”, — суммировали в 1932 году позицию советской цензуры Ильф и Петров. Догадывались ли они, что чуткие цензоры всего лишь ловили сигналы, исходившие от самого Сталина?
Известно, что Сталина сексуальные сцены в литературе, театре и кино выводили из себя. Достаточно грубый в быту, злоупотреблявший в тесном кругу матерщиной, секса в искусстве вождь не переносил. При нем обнаженные тела почти исчезли с картин, что уж говорить о кинокартинах. Киночиновник, ответственный за показы в Кремле, тщательно следил за тем, чтобы и в тех западных фильмах, которые приватно демонстрировались для Сталина и его соратников, как-нибудь не проскочила “неприличная” сцена.
Был известен случай, когда на просмотр в Кремль привезли нечто пикантное — “для разрядки”. Как только Сталин понял, что происходит на экране, он стукнул кулаком по столу: “Вы что тут бардак разводите!”. Разгневанный вождь встал и вышел, за ним последовали члены Политбюро. Показ провалился. Факт этой спонтанной сталинской реакции многое помогает понять в последующей интриге.
Советская критика, поначалу встретившая оперу Шостаковича более чем благосклонно, вопрос о ее эротизме тщательно обходила. Вот как выкручивался друг композитора Валериан Богданов-Березовский в статье, опубликованной в бухаринских “Известиях” в 1933 году: “В сущности, сюжет оперы чрезвычайно стар и прост: любовь, измена, ревность, смерть. Но тема шире и глубже сюжета, она — в неприкрашенном показе звериного лика царской России, в обнажении тупости, скупости, похоти, жестокости дореволюционного общества”.
Сергей Эйзенштейн, разбирая оперу Шостаковича в том же 1933 году на занятиях со своими студентами, мог быть несколько более откровенен: “В музыке “биологическая” любовная линия проведена с предельной яркостью”. Еще более откровенным был Сергей Прокофьев в частных разговорах: “Эта свинская музыка — волны похоти так и ходят, так и ходят!”.
Друг и конфидант Прокофьева Борис Асафьев развил этот взгляд печатно только в 1936 году, когда Шостакович впал в немилость у властей. Сделано это было с присущей Асафьеву витиеватостью, но, увы, прозвучало в тот момент как откровенный донос: “Меня лично всегда поражало в Шостаковиче сочетание моцартовской легкости и — в самом лучшем смысле — беспечного легкомыслия и юности с далеко не юным, жестоким и грубым “вкусом” к патологическим состояниям, за счет раскрытия человечности”. Позднее Асафьев написал о “предельно цинично себя обнаружившей чувственности” оперы Шостаковича. Композитор никогда не простил Асафьеву этих строк.
Интересно, что из ранних отзывов наиболее откровенным образом ханжеские претензии к музыке “Леди Макбет” были сформулированы в американской прессе, когда оперу представили в Нью-Йорке в 1935 году: “Шостакович является, вне сомненья, наиглавнейшим композитором порнографической музыки во всей истории оперы”. Особое возмущение американских критиков вызвала сцена, в которой Сергей овладевает Катериной под аккомпанемент недвусмысленно-описательных глиссандо тромбона в оркестре: этот эпизод получил у американцев название “порнофонии”. Музыкальный критик “Нью-Йорк Таймс” был вне себя: “…поражаешься композиторскому нахальству и недостатку самокритичности”. Ознакомившись с этими и тому подобными нападками, призадумаешься: а не прочли ли все это внимательнейшим образом в Москве?
Но, конечно, не только неслыханное для той поры эротическое напряжение поражало в музыке оперы Шостаковича. Это было грандиозное полотно, захватывавшее непривычным сочетанием несочетаемого (“трагедия-сатира”, по уже цитировавшемуся определению композитора), лирической мощью и страстью, яркостью и незабываемой характерностью не только ведущих, но и второстепенных персонажей и буйной щедростью оркестрового письма. Действие развивалось стремительно, увлекательно, музыка то шокировала слушателей, то смешила их, а то и трогала до слез. Опера стала событием еще до того, как была закончена автором.
Почти сразу утвердилось мнение, что “в истории русского музыкального театра после “Пиковой дамы” не появлялось произведения такого масштаба и глубины, как “Леди Макбет”. Некоторые шли еще дальше, указывая, что партия Катерины — “одна из наиболее сильных женских партий после “Аиды” Верди”. Решительнее всех высказался все тот же изобретательный и многоликий Асафьев: “…советская музыкальная культура в лице Шостаковича обладает явлением моцартовского порядка”.
Немудрено поэтому, что за право первой постановки “Леди Макбет” схватились два самых предприимчивых и смелых оперных коллектива страны: в Ленинграде Малый оперный театр, где дирижером был друг Шостаковича Самуил Самосуд, в Москве — Музыкальный театр под руководством легендарного Немировича-Данченко.
Ленинградцы обогнали москвичей на два дня, зато на московской премьере 24 января 1934 года присутствовал сам Максим Горький. Прием и здесь, и там был ошеломляющим. В описании “Красной газеты” ленинградская премьера вызывала ассоциации с байрейтскими вагнеровскими экстазами: “Публика в прекрасном смятении ринулась к рампе, к оркестру: воздетые кверху руки среди серебряной лепки лож, озаренные восторгом лица, глаза, обращенные к сцене, тысячи ладоней, вознесенных в взволнованном рукоплескании”.
Особенно поражала воображение молодость 27-летнего автора: “Публика ожидала увидеть зрелого мужа, нового Вагнера, властно организовавшего эту бурю звучаний, меж тем глазам зрителя представляется совсем молодой человек, еще более моложавый по виду, почти юноша…”.
Слова “Моцарт”, “гений” летали в воздухе. Это было бы удивительно и само по себе: советская культурная элита 30-х годов была беспощадна, здесь друг друга скорее ниспровергали и сурово критиковали, нежели восхваляли. Но еще удивительнее, что гением Шостаковича провозглашали одновременно и справа и слева, лидеры бескомпромиссно враждовавших эстетических направлений: “реалисты” Немирович-Данченко и Алексей Толстой — и “авангардисты” Мейерхольд и Эйзенштейн.
Этому угару поддались даже бдительные и вечно суровые партийные руководители: оперу Шостаковича одобрил тогдашний нарком просвещения Андрей Бубнов, а после премьеры театральным начальством был издан специальный приказ, в котором говорилось, что она “свидетельствует о начавшемся блестящем расцвете советского оперного творчества на основе исторического решения ЦК ВКП(б) от 23 апреля 1932 года”*.
* Имелось в виду решение Сталина о разгоне пролетарских “творческих” организаций. Таким образом успех оперы Шостаковича подавался как прямое следствие мудрой культурной политики вождя.
Беспрецедентность всеобщего одобрения (слева, справа, сверху) усугублялась настоящим успехом “снизу”, у публики, редким для современной оперы. В Советском Союзе, как и во всем мире, высокая оценка элитой вовсе не обеспечивала широкого признания. Достаточно напомнить, что фильм Эйзенштейна “Броненосец “Потемкин” в широком прокате провалился несмотря на восторженные отзывы прессы и поддержку руководства. Не то с “Леди Макбет”: в Ленинграде она менее чем за год прошла 50 раз “с аншлагами по повышенным ценам”, как с удовлетворением отмечал автор.
После того как в 1935 году оперу поставили также в филиале Большого театра, а в самом Большом осуществили премьеру комедийного балета Шостаковича “Светлый ручей” (также встреченного публикой “на ура”), оказалось, что в столице произведения молодого автора идут одновременно на трех ведущих сценах — случай невероятный!
Атмосфера сенсации подогревалась сообщениями об успешных исполнениях “Леди Макбет” (и других произведений Шостаковича) за границей: в Англии, Швеции, Швейцарии, Соединенных Штатах. Юрий Олеша признавался: “До сих пор нам хочется получить признание от Запада. Великий дирижер Тосканини исполняет симфонию Шостаковича. Молодому советскому композитору приятно думать о том, что его признает великий дирижер Запада. Признание Западом, скажем, Стравинского имеет для нас какое-то особое значение. До сих пор странное уважение вызывает к себе Шаляпин, потому что он был русским и стал знаменит в Европе. Когда переводят наши книги на Западе, это удовлетворяет наше тщеславие…”.
Когда Ромен Роллан, европейский мэтр, прислал своему другу Максиму Горькому похвальное письмо о “Леди Макбет”, это было для того важным подтверждением правильности его первой эмоциональной реакции: Горький, как известно, на премьере был восхищен, во время последнего “каторжного” акта утирал набежавшие слезы.
Для Горького и его союзника по культурному фронту Бухарина появление “Леди Макбет” тоже было весьма кстати: вот выдающееся произведение молодого советского автора, основанное на русской классике (столь любимый Горьким Лесков), новаторское и эмоционально захватывающее, высоко оцененное элитой, но доступное и более широкой публике, признанное и в Москве и за границей. Это событие служило столь важной тогда для Горького цели объединения советского искусства, в то же время являясь отличной “визитной карточкой” новой социалистической культуры на Западе.
Сталин должен был бы разделять эти соображения Горького. Но перед ним вставали и другие задачи — экономические, социальные и чисто политические.
Дореволюционная Россия была в основном аграрной страной, где большинство населения было неграмотным. Большевики пытались исправить ситуацию, но дело продвигалось туго. Через десять лет после революции СССР занимал по уровню грамотности лишь девятнадцатое место в Европе. Между тем, для осуществления амбициозной сталинской программы индустриализации требовались грамотные работники.
В 30-е годы десятки миллионов бывших крестьян заполнили города, этих людей следовало срочно урбанизировать. Сталин говорил: “…нам совсем не безразлично, в каком виде поступают на наши фабрики и заводы рабочие, культурны они или не культурны. Это очень серьезный вопрос. Никакой серьезной индустрии развить мы не сможем, не сделав все население грамотным”. При этом Сталин, разумеется, помнил соображения Ленина о том, что “недостаточно безграмотность ликвидировать, но нужно еще строить советское хозяйство, а при этом на одной грамотности далеко не уедешь. Нам нужно громадное повышение культуры”.
Вопрос вставал принципиальный: какая же именно культура нужна была огромной стране, в которой даже в конце 30-х годов сельское население составляло две трети? Работа здесь предстояла огромная, и надо было выбирать ее основные магистрали.
Направление сталинских размышлений по этому поводу становится ясным из необычайно выразительного письма Александра Фадеева к своей близкой подруге Эсфири Шуб от 26 февраля 1936 года: “Лучшие люди страны видят и чувствуют огромное противоречие между большими, подлинно человеческими, все растущими потребностями масс и теми продуктами искусства, продуктами последней, так сказать, самой “левой” изощренности (вследствие распада старого), которые часто восславляются дураками из холуйства перед этой изощренностью, но в состоянии удовлетворить только людей в очках, с тонкими ногами и жидкой кровью. Когда-нибудь — уже скоро — лучшие люди страны, партии получат возможность (в смысле времени) повседневно заниматься делами искусства, — тогда многое “образуется””.
Историки не обращали до сих пор должного внимания на этот в высшей степени примечательный документ, а зря. Фадеев, талантливый писатель, возведенный Сталиным в ранг живого классика, был также одним из ведущих культурных функционеров. Сталин не раз и не два беседовал с ним наедине, и Фадееву были известны многие сокровенные мысли и идеи вождя.
“Лучшие люди страны, партии” — это, разумеется, эвфемизм, подразумевающий самого Сталина. Пассаж о неких людях “в очках, с тонкими ногами” — портрет вполне узнаваемой, конкретной фигуры, композитора Шостаковича, а письмо в целом несомненно отражает содержание разговора Фадеева со Сталиным о событии, имевшем место совсем недавно, 26 января. В этот день Сталин, в сопровождении своих ближайших соратников — Вячеслава Молотова, Анастаса Микояна и Андрея Жданова, посетил представление “Леди Макбет Мценского уезда” в филиале Большого театра.
Это был не первый приход Сталина на советскую оперу в 1936 году. 17 января Сталин и Молотов слушали оперу молодого ленинградского композитора Ивана Дзержинского “Тихий Дон” (по популярному роману Михаила Шолохова). Через несколько дней в прессе появилось официальное коммюнике, извещавшее, что Сталин и Mолотов “отметили значительную идейно-политическую ценность постановки”.
Так ли уж Сталину понравилась опера Дзержинского? Косвенным свидетельством тут может послужить тот факт, что когда в 1941 году с большой помпой было объявлено о присуждении первых Сталинских премий (награждались произведения последних шести лет), то Дзержинского среди лауреатов не было, в то время как “Тихий Дон” Шолохова получил премию первой степени.
Но сдержанное отношение Сталина к музыке Дзержинского отнюдь не помешало вождю поддержать его оперу в качестве приемлемой “идейно-политической” модели. Как и почему это произошло? Возможный ответ на этот вопрос можно, как мне представляется, найти в сравнительно недавно опубликованном документе. В своей докладной записке Сталину от 2 января 1936 года один из его ближайших помощников по делам литературным Александр Щербаков отчаянно воззвал: “Сейчас литература нуждается в боевом, конкретном лозунге, который мобилизовал бы писателей. Помогите, тов. Сталин, этот лозунг выдвинуть”.
Щербаков был хитрый и опытный царедворец, умело угадывавший даже и невысказанные пожелания вождя. Сталин милостиво откликнулся на его призыв, спустив лозунг — “простота и народность”. Этот лозунг, отразивший размышления Сталина последних лет о задачах культуры, в какой-то мере кристаллизовал чересчур уж туманное определение “метода социалистического реализма”, выдвинутое на Первом съезде советских писателей. Теперь к лозунгу “простоты и народности” нужно было подобрать конкретные положительные и отрицательные примеры из текущей культурной жизни.
Как это станет ясно из последующей идеологической кампании, Сталин решил главное для него направление — литературное — поначалу не затрагивать, а сосредоточиться на искусстве и особенно музыке, к которой у него был личный интерес. В качестве положительного культурного примера была избрана опера Дзержинского. В качестве отрицательного — попала под руку опера Шостаковича. Вот как это произошло.
Сталин прибыл на спектакль “Леди Макбет” в филиале Большого театра (дирижировал его любимец Александр Мелик-Пашаев), вероятно, в хорошем настроении — он, как правило, получал удовольствие от посещения оперных и балетных представлений. Предыдущий его поход на советскую оперу (“Тихий Дон”) завершился благоприятно. Такого же исхода ожидали и на сей раз: ведь “Леди Макбет” Шостаковича была практически единодушно признана “победой музыкального театра” (таким был заголовок посвященной этой опере полосы в газетном официозе “Советское искусство”).
Шостаковича, который собирался уезжать в Архангельск на гастроли, где он по приглашению местного радиокомитета должен был, в частности, солировать в своем Первом фортепианном концерте, срочно вызвал на спектакль заместитель директора Большого театра Яков Леонтьев.
Опытный царедворец Леонтьев был другом Михаила Булгакова. Сохранился уникальный и своеобразный “документ”: записанный юмористический “устный рассказ” Булгакова об этом событии, в котором, несомненно, отразились сведения, сообщенные ему Леонтьевым.
Булгаков, со слов Леонтьева, иронически повествует о том, как “белый от страху” Шостакович прискакал в театр, Сталин и его спутники уселись в правительственной ложе и: “Мелик яростно взмахивает палочкой, и начинается увертюра. В предвкушении ордена, чувствуя на себе взгляды вождей, — Мелик неистовствует, прыгает, как чертенок, рубит воздух дирижерской палочкой, беззвучно подпевает оркестру. С него градом течет пот. “Ничего, в антракте переменю рубашку”, — думает он в экстазе. После увертюры он косится на ложу, ожидая аплодисментов, — шиш. После первого действия — то же самое, никакого впечатления”.
Устная микроновелла Булгакова, разумеется, гротескно утрирована. (В частности, никакой увертюры у “Леди Макбет” не было, опера начиналась прямо с краткого вступления к первому напряженно-лирическому монологу героини.) Но ценность этой записи для понимания атмосферы очень велика, особенно если учесть, как мало непосредственных свидетельств современников сохранилось обо всем этом грозном деле.
Важно, что сведения Булгакова сходятся с сообщением близкого друга Шостаковича, советского музыкального функционера Левона Атовмьяна. Он подтверждает, что в тот роковой день оркестр чересчур раззадорился — вероятно, подогреваемый присутствием высоких гостей. Вдобавок духовая группа (музыкантами всего мира именуемая итальянским словом “banda”) по такому случаю была специально увеличена и играла она, особенно в оркестровом антракте перед сценой свадьбы Катерины, с излишней, по мнению композитора, громкостью. Духовые размещались прямо под правительственной ложей, и “бледный, как полотно” Шостакович, как вспоминал Атовмьян, пришел в ужас.
После спектакля композитор никак не мог успокоиться и, отправляясь на концерты в Архангельск, раздраженно допрашивал Атовмьяна: “Скажи, зачем надо было так чрезмерно увеличивать звучность “банды”? Что это — излишний “шашлычный” темперамент Мелик-Пашаева, который слишком “переперчил” антракт и всю эту сцену? Ведь сидящие в правительственной ложе, думаю, оглохли от такой звучности медной группы; чует мое сердце, что этот год, впрочем, как и все високосные, принесет мне очередное несчастье”.
В Архангельск весьма суеверный Шостакович (вера в популярные приметы сохранялась у него — заметим, как и у Пушкина, — всю жизнь) уезжал, как он сообщил в письме своему другу Соллертинскому, “со скорбной душой”: он уже понимал, что его опера не пришлась по душе высшему партийному руководству. Но даже он не предвидел размеров и ужасающего эффекта стремительно накатывавшейся на него катастрофы.
В Архангельске, в морозный зимний день, Шостакович встал в очередь в газетный киоск. Очередь двигалась медленно, и Шостакович дрожал от холода. Купив главную газету страны, “Правду” (ее тогда официально именовали Ц.О., т.е. “центральным органом”), от 28 января 1936 года, Шостакович развернул ее и на третьей полосе увидел редакционную статью (без подписи) под заголовком “Сумбур вместо музыки”. В подзаголовке стояло в скобках: “(об опере “Леди Макбет Мценского уезда”)”. Шостакович тут же, не отходя от киоска, начал читать. От неожиданности и ужаса его зашатало. Из очереди закричали: “Что, браток, с утра набрался?”.
Даже и теперь, десятилетия спустя, невозможно читать “Сумбур вместо музыки” без содрогания. Нетрудно понять, почему 29-летний композитор почувствовал, что земля под ним разверзлась. Его оперу, любимое его детище, уже завоевавшее признание во всем мире, абсолютно неожиданно подвергли грубому, бесцеремонному, безграмотному разносу.
Статья эта получила с тех пор печальную известность как классический пример авторитарной культурной критики. Как таковая она даже включается в специальные хрестоматии. Многие пассажи из нее хорошо известны. Даже ее заглавие стало нарицательным. Но попытаемся взглянуть на нее глазами современника. О чем говорилось в этой статье и чем грозила она — не только Шостаковичу, но и всей советской культуре?
В тексте “Сумбура вместо музыки” можно различить два пласта. Один составляют впечатления автора этой статьи от музыки оперы Шостаковича и ее постановки в филиале Большого театра. Другой пласт, так сказать, теоретический. Отклик на музыку — непосредственный и весьма эмоциональный: “Слушателя с первой же минуты ошарашивает в опере нарочито нестройный сумбурный поток звуков. Обрывки мелодии, зачатки музыкальной фразы тонут, вырываются, снова исчезают в грохоте, скрежете и визге. Следить за этой “музыкой” трудно, запомнить ее невозможно”.
Как и некоторых западных критиков, особенно возмутили автора статьи эротические эпизоды оперы: “Музыка крякает, ухает, пыхтит, задыхается. Чтобы как можно натуральнее изобразить любовные сцены. И “любовь” размазана во всей опере в самой вульгарной форме”. И в спектакле филиала Большого театра неприятие в первую очередь вызвали именно эти сцены: “Купеческая двуспальная кровать занимает центральное место в оформлении. На ней разрешаются все “проблемы”.
Интересно отметить, что автор статьи читал Лескова и не согласен с тем, как его произведение интерпретировано в опере Шостаковича: “Хищница-купчиха, дорвавшаяся путем убийств к богатству и власти, представлена в виде какой-то “жертвы” буржуазного общества. Бытовой повести Лескова навязан смысл, какого в ней нет”.
Но особенно важными были теоретический и политический аспекты статьи. Опера Шостаковича обвинялась одновременно в формализме и натурализме. Само по себе использование этих терминов в культурной борьбе того времени не было чем-то новым. Под “натурализмом”, как правило, понимались излишне откровенные пассажи, в “формализме” обыкновенно упрекали усложненные, по мнению критикующих чересчур “мудреные” произведения. Шостаковичу уже и раньше приходилось отбиваться от обвинений в формализме. В 1935 году в бухаринских “Известиях” он упрямо и весьма вызывающе заявил: “Эти упреки я ни в какой степени не принимал и не принимаю. Формалистом я никогда не был и не буду. Шельмовать же какое бы то ни было произведение как формалистическое на том основании, что язык этого сочинения сложен, иной раз не сразу понятен, является недопустимым легкомыслием…”.
Но теперь “Правда” настаивала на том, что “мелкобуржуазные формалистические потуги” Шостаковича есть политическая трансгрессия: “Это — музыка, умышленно сделанная “шиворот-навыворот” — так, чтобы ничего не напоминало классическую музыку, ничего не было общего с симфоническими звучаниями, с простой, общедоступной музыкальной речью. <…> Это левацкий сумбур вместо естественной человеческой музыки”.
А в чем заключался “грубейший натурализм” оперы Шостаковича? И тут был дан авторитетный ответ: “Это воспевание купеческой похотливости…”.
“Правда” давала понять, что ее беспокоит не только и не столько опера Шостаковича: “Опасность такого направления в советской музыке ясна. Левацкое уродство в опере растет из того же источника, что и левацкое уродство в живописи, в поэзии, в педагогике, в науке. Мелкобуржуазное “новаторство” ведет к отрыву от подлинного искусства, науки, от подлинной литературы”.
Сам по себе оскорбительно-пренебрежительный, разносный стиль статьи не был таким уж неслыханным, для полемики тех лет он был скорее правилом. Ошарашивал (и не только Шостаковича, но и многих других) факт неожиданного вмешательства “Правды” после двух с лишним лет всевозраставших триумфов оперы. Но еще более существенным было другое.
В прежних дискуссиях о натурализме и формализме одна сторона могла нападать, другая — активно отбиваться и даже контратаковать. Ситуация вдруг резко изменилась. Самый тон публикации в “Правде” был безапелляционным, как тогда выражались — “директивным”. Это было подчеркнуто отсутствием под статьей подписи автора. Подразумевалось, что в ней высказано мнение не одного какого-нибудь критика или даже группы, а партии в целом. Это придавало любым возможным возражениям заведомо криминальный “антисоветский” характер.
Еще сравнительно недавно Булгакову, Замятину и Пильняку предъявлялись исключительно политические претензии, об их эстетике речь не шла. Теперь впервые эстетические “прегрешения” приравнивались к политическим. Это было новым и опасным развитием событий. У многих деятелей культуры, прочитавших “Сумбур вместо музыки”, мороз должен был пройти по коже, когда они наткнулись там на грозное предупреждение: “Это игра в заумные вещи, которая может кончиться очень плохо”.
Кто же стоял за этой зловещей угрозой? Выяснение личности писавшего “Сумбур вместо музыки” превратилось с годами в небольшую индустрию. Разные исследователи выдвигают различных кандидатов: назывались имена журналиста Давида Заславского, музыковеда Виктора Городинского, тогдашнего заведующего отделом литературы и искусства “Правды” Исаака Лежнева, Платона Керженцева — председателя организованного в январе 1936 года Комитета по делам искусств. Эмигрант Юрий Елагин утверждал, что статью писал Андрей Жданов.
Но осведомленные современники почти сразу же заговорили о том, что подлинным автором “Сумбура вместо музыки” является сам Сталин. Это явствует, в частности, из уже упоминавшегося “устного рассказа” Булгакова.
Опираясь на сведения, полученные из сталинского “придворного” круга, Булгаков в гротескной, но убедительной форме описывает “коллегиальное совещание”, несомненно состоявшееся в правительственной ложе после прослушивания оперы. Булгаковский Сталин говорит: “Я не люблю давить на чужие мнения, я не буду говорить, что, по-моему, это какофония, сумбур в музыке, а попрошу товарищей высказать совершенно самостоятельно свои мнения”.
Далее Булгаков комически передает сикофантские реакции присутствовавших на спектакле сталинских соратников и заключает сообщением о том, как в “Правде” появилась статья “Сумбур вместо музыки”, в которой “несколько раз повторяется слово “какофония”.
Здесь Булгаков ошибся — о какофонии в “Правде” упоминалось только единожды. Но даже ошибка эта показательна — она передает впечатление писателя от тавтологического стиля “Сумбура вместо музыки”. Эта тавтологичность является одной из важнейших примет личной сталинской манеры высказывания. Он использовал ее как орудие вполне сознательно, о чем написал исследователь сталинской прозы Михаил Вайскопф: “Прием этот, призванный обеспечить некий гипнотический эффект, давался ему легко уже вследствие ограниченности его словарного фонда, но со временем получил целенаправленное развитие”.
В статье “Правды” об опере Шостаковича прилагательное “левацкий” (“левацкое”) повторялось четыре раза; автор зациклился на словах “грубо”, “грубый”, “грубейший” — шесть раз; “сумбур”, “сумбурный” — пять раз (включая заголовок). Шостакович первым обратил мое внимание на то, что этот “сумбур” в свою очередь перекочевал в статью о музыке прямиком из опубликованного в “Правде” за день до того материала о конспектах школьных учебников по истории, под которым стояла подпись Сталина*.
* Возражение, что сталинские “замечания” об учебниках были написаны ранее, несостоятельно: несомненно, что Сталин перечитывал и правил рукопись перед публикацией в “Правде”, отсюда и застрявшее в памяти (на языке) словечко “сумбур”.
У Шостаковича был еще один существенный аргумент в пользу авторства Сталина. Он доказывал, что другие предполагаемые кандидаты были людьми образованными. Вряд ли их перья вывели бы пассажи о музыке, в которой “ничего не было общего с симфоническими звучаниями” (что это за таинственные звучания такие?) или о претензиях композитора “создать оригинальность приемами дешевого оригинальничанья”. Все эти (и другие им подобные) неповторимые перлы “Сумбура вместо музыки”, по мнению Шостаковича, могли быть только подлинными сталинскими высказываниями, иначе до газетной полосы они бы не дошли — вычеркнул бы редактор.
Конечно, можно предположить, что эту статью Сталин не лично записал, а надиктовал — быть может, по телефону — какому-либо из ведущих журналистов “Правды”, а затем просмотрел перед выходом газеты. О том, как это в таких случаях делалось, рассказал присутствовавший при подобных процедурах Дмитрий Шепилов, одно время — главный редактор “Правды”. По его словам, важные “директивные” статьи, подпись Сталина под которыми по тем или иным причинам была нежелательной, вождь диктовал сам, медленно, взвешивая каждое слово. Записывал либо помощник Сталина, либо главный редактор газеты.
“Такая работа иногда длилась много часов подряд, — свидетельствовал Шепилов, добавляя: — И бывало, что работа начиналась днем, а заканчивалась на рассвете следующего дня”. Сталин лично определял не только форму статьи — будет ли она передовой, редакционной, пойдет ли за псевдонимной подписью или от имени некоего “Обозревателя”, — но и место: на какой полосе, с иллюстрацией или без и т.д. Так что совершенно неважно, чьей рукой будет записан “Сумбур вместо музыки”, если когда-нибудь обнаружится его рукопись*. Сути дела это не меняет.
* Скрипач и музыковед Михаил Гольдштейн в своих мемуарах утверждал, что в 1962 году спросил у Давида Заславского, с 1928 года и до своей смерти в 1965 году — бессменного ведущего журналиста “Правды”, не он ли был, как многие предполагали, подлинным автором “Сумбура вместо музыки”. Согласно Гольдштейну, Заславский ответил: “Мне принесли из ЦК готовую статью, которая была согласована и одобрена. Мне лишь оставалось подготовить ее к печати и кое-что сгладить в шероховатостях русского языка и ругательных выражениях”.
Шостакович был прав: “Сумбур вместо музыки” не только в главной своей идее, но и в деталях является текстом Сталина. Это подтверждается отношением к “Сумбуру вместо музыки” самого вождя. Из всех анонимных установочных статей “Правды” (а их в этот и последующие годы появилось немалое количество) эта оставалась самой дорогой его сердцу, о чем есть много свидетельств. Другие статьи такого рода публиковались, исполняли свою служебную роль и исчезали в бескрайнем потоке прочих партийных директив. Только “Сумбур вместо музыки” развевался в качестве флага советской эстетики на протяжении долгих десятилетий, пережив даже самого Сталина.
Но если подлинным автором редакционной статьи “Правды” был сам вождь, то что побудило его столь резко обрушиться на оперу Шостаковича? Как всегда у Сталина, главными следует считать сугубо политические резоны. Но к ним, несомненно, примешивались и сильные личные мотивы — вкусовые и психологические.
Сталин был твердо убежден, что в Советском Союзе следует создавать и пропагандировать “общенародную” культуру, которая будет принята и усвоена широкими массами. Такая всеобщая “культурная грамотность” должна была способствовать превращению страны в передовое государство. Сталин великолепно понимал важность культуры как инструмента политического воспитания и контроля. Но при этом его личные вкусы в искусстве не были исключительно прагматическими.
В отличие от многих других политических лидеров ХХ века Сталина можно назвать фанатом культуры. По его собственным подсчетам, он проглатывал в среднем по пятьсот страниц в день. Конечно, в основном это были всякого рода деловые бумаги. Но Сталин читал также много и литературных произведений — документальных и художественных: все это внимательно, с карандашом в руке, оставляя заинтересованные пометки и замечания на полях.
Интерес Сталина к классической музыке был неподдельным. Он слушал ее часто и с видимым наслаждением. Это были в первую очередь русские оперы и балеты — Чайковский, Глинка, Бородин, Римский-Корсаков, в меньшей степени Мусоргский. Но к числу фаворитов Сталина относились также Бизе, Верди.
Известен случай, когда в программу праздничного концерта, которым должен был завершиться Чрезвычайный VIII Всесоюзный съезд Советов в 1936 году (на нем был одобрен проект новой, “сталинской” Конституции), были поставлены разного рода облегченные номера. Когда эту программу представили на утверждение Сталину, вождь собственноручно вписал туда финал Девятой симфонии Бетховена с ее знаменитым хором “К радости”, потеснив развлекательную музыку. Конечно, это был политический жест, но достаточно красноречивый.
Сталину нравились народные песни — грузинские (“Сулико”) и русские (“Во поле березонька стояла”, “Всю-то я вселенную проехал”), он часто слушал пластинки с записями этих песен (причем прямо на них выставлял им оценки — “отлично”, “хорошо” и т.д.), любил и сам попеть в компании — у него был высокий тенор*. Такого рода музыка часто звучала по радио, но классике неизменно отводилось заметное место, Сталин об этом специально заботился. Он любил подчеркнуть свою склонность к классической музыке.
* Воспоминания Молотова сохранили уникальную сцену: Сталин, Молотов и Ворошилов втроем поют под аккомпанемент Жданова, сидящего за пианино, церковную музыку. В узком кругу Сталин со своими соратниками пел даже русскую эмигрантскую музыку, долгие годы запрещавшуюся в СССР, — например, “белогвардейские” песни Вертинского и Петра Лещенко.
Вот характерный эпизод. Когда однажды для членов Политбюро пел знаменитый тенор Иван Козловский, сталинский любимец, то соратники вождя стали требовать от певца исполнения веселой народной песни. Тогда вмешался сам Сталин: “Зачем нажимать на товарища Козловского? Путь он исполнит то, что сам желает. А желает он исполнить арию Ленского из оперы Чайковского “Евгений Онегин””. И пришлось членам Политбюро проглотить классическую арию.
С удовольствием слушал Сталин не только вокалистов, но и музыкантов-инструменталистов: пианистов, скрипачей, виолончелистов. Среди его любимцев были молодые музыканты, ставшие впоследствии мировыми знаменитостями — Эмиль Гилельс, Давид Ойстрах, позднее — Святослав Рихтер и Мстислав Ростропович. Все они в разное время были награждены Сталинскими премиями.
Политическая подоплека такого внимания Сталина к молодым артистам ясна: эти музыканты демонстрировали миру “человеческое лицо” советского социализма. Но опять-таки, увлечение Сталина этой областью культуры было, по всей видимости, искренним. Будучи ценителем “мастерства” во всех сферах, вождь так же уважал и ценил высокий профессионализм отечественных музыкантов.
С 1933 года под эгидой Сталина учредили Всесоюзные конкурсы музыкантов-исполнителей; многие из победителей по праву заняли ведущие места в советской культуре. Одним из участников первого конкурса был одиннадцатилетний скрипач Борис (Буся) Гольдштейн. Сталин пришел в восторг от его игры и пригласил вундеркинда в Кремль, где ему была вручена большая денежная премия. Сталин при этом пошутил:
— Ну, Буся, теперь ты стал капиталистом и, наверное, настолько зазнаешься, что не захочешь меня пригласить в гости.
— Я бы с большой радостью пригласил вас к себе, — ответствовал находчивый вундеркинд, — но мы живем в тесной квартире, и вас негде будет посадить.
На другой же день Бусе и его семье была предоставлена квартира в новом доме в центре Москвы.
Как сказал Сталин в одной из своих знаменитых речей тех лет: “Жить стало лучше, жить стало веселее”. В эту незамысловатую, но эффектную формулу экспрессионистская эстетика “Леди Макбет Мценского уезда” Шостаковича явно не вписывалась. Все это темпераментное нагромождение секса, ужасов, шокирующих эпизодов было чуждо вкусам самого Сталина и, несомненно, вызвало взрыв раздражения и возмущения советского вождя (как, заметим, и многих других консервативных любителей классической музыки во всем мире — здесь Сталин вовсе не был вопиющим исключением, каким его задним числом пытаются иногда изобразить).
Но в тот памятный январский вечер 1936 года, когда Сталин пришел на представление “Леди Макбет”, на уме у вождя были соображения поважнее, чем директивное насаждение личных вкусов. Сталин гордился умением подчинять свои эмоции тактическим нуждам момента. А этот момент требовал активного утверждения новой государственной “советской морали”: правительством планировались вскоре принятые законы о запрещении абортов и новый кодекс о семье и браке. Ведь советскую семью, по мнению Сталина, следовало всемерно укреплять. По инициативе вождя развод был значительно затруднен. Фотографии Сталина с детьми на руках стали регулярно появляться в прессе. А тут вдруг опера, воспевающая “свободную любовь” (или, по словам Сталина в “Сумбуре вместо музыки”, — “купеческую похотливость”), в которой проблема развода с ненавистным мужем разрешалась просто и брутально: с помощью убийства.
Все это позволило Сталину предъявить Шостаковичу обвинение также общекультурного плана, сформулированное все в той же редакционной статье “Правды”: композитор-де “прошел мимо требований советской культуры изгнать грубость и дикость из всех углов советского быта”.
Теперь нам абсолютно ясно, что кампания по борьбе с “формализмом”, с “интеллигентским” искусством была задумана Сталиным заранее и осуществлялась по определенному плану. Об этом свидетельствует быстрая последовательность появления в “Правде” “антиформалистских” редакционных статей: удары по кино (“Грубая схема вместо исторической правды”, 13 февраля), архитектуре (“Какофония в архитектуре”, 20 февраля), живописи (“О художниках-пачкунах”, 1 марта), театру (“Внешний блеск и фальшивое содержание”, 9 марта). Тут все понятно и объяснимо логикой культурно-политического наступления, срежиссированного Сталиным.
Удивительным остается другое: почему именно музыку надо было атаковать несколько раз подряд, причем всякий раз объектом нападений оставался один и тот же композитор — Шостакович?
Специалистам хорошо известно, что вслед за оперой поношению в “Правде” подвергся шедший с огромным зрительским успехом в Большом театре балет Шостаковича “Светлый ручей” (“Балетная фальшь”, 6 февраля). Но до сих пор мало внимания было обращено на то, что Шостакович “удостоился” третьей статьи в “Правде”. Ее тоже можно считать редакционной, ибо опубликована она была без подписи (это произошло 13 февраля). Но директивная сущность этой статьи была замаскирована помещением ее под рубрикой “Обзор печати”. (Как тут не вспомнить о засвидетельствованном Шепиловым умении Сталина продвигать свои установки с помощью материалов в разных газетных жанрах.)
Три редакционные статьи против одного и того же человека появились в главной газете страны в течение двух с небольшим недель! И человек этот — не опасный политический враг, не английский или французский премьер-министр, а всего лишь 29-летний композитор, широким читательским массам страны до тех пор весьма мало известный. Налицо явный, ужасающий перехлест. Что еще важнее (как мы увидим далее): это и было воспринято многими, очень многими, как явный перехлест. Чем же он был вызван?
Мне кажется, этой загадки не разгадать, если оперировать только возможными прагматическими, рациональными резонами. Тут нужен психологический ключ. Никакой самый прагматичный и хладнокровный политик не в состоянии функционировать как бесчувственная машина, как автомат, в его решения неминуемо вторгается человеческий эмоциональный элемент. Это наблюдение справедливо также и по отношению к Сталину.
В оценке действий Сталина маятник современных суждений раскачивается слишком уж широко: некоторые комментаторы его поступки демонизируют, объясняя их почти исключительно темными иррациональными импульсами; другие, наоборот, объявили Сталина воплощением абсолютно безличного холодного прагматизма. Истина, видимо, заключается в том, что, будучи великим мастером политической игры и незаурядным государственным деятелем, Сталин достаточно часто ошибался и срывался, когда начинал полагаться на свое — действительно исключительное, но не непогрешимое — чутье.
Наиболее известный, хрестоматийный пример: роковая ошибка в оценке намерений Гитлера в 1941 году, когда тот неожиданно для Сталина вторгся в Советский Союз. Советский вождь был настолько уверен, что в тот момент Гитлер не решится на нападение, что полностью игнорировал стремительно нараставшие сведения о подготовке Германии к агрессии. Результатом стала военная катастрофа первых месяцев войны. А с тем, что это была катастрофа, соглашаются нынче все, даже крайние “ревизионисты” типа Виктора Суворова.
Надо полагать, что в случае с Шостаковичем Сталина как раз и захлестнули эмоции. Мало того, что его вывели из себя сюжет и музыка оперы (в аналогичных ситуациях он умел сдержаться). Мало того, что эта опера противоречила сталинской культурной установке на тот период. Но вдобавок молодого композитора все кругом объявляли гением — и не только в Советском Союзе, но и на Западе! Именно последнее, как мне представляется, должно было переполнить чашу терпения вождя.
Ведь слава других советских мастеров культуры была в значительной степени местной, замкнутой границами страны — следовательно, зависела от сталинского контроля и манипуляций. Тут можно было не оглядываться на Запад.
Исключения были крайне редки; к ним, разумеется, принадлежал Горький. Конечно, на Западе уважали Станиславского — но его уважал и Сталин. Международной известностью пользовался Сергей Эйзенштейн — но за дело, за фильм “Броненосец “Потемкин”, который сам Сталин тоже высоко ценил. И то вождь постоянно на Эйзенштейна раздражался и его одергивал, часто самым бесцеремонным и обидным образом. Международный авторитет Мейерхольда вышел режиссеру, как известно, боком. То же произошло и с Шостаковичем. Сталин решил, что он понимает лучше, закусил удила, и его понесло.
Доказательством этому является реакция Сталина на комедийный балет Шостаковича “Светлый ручей”, недавно, кстати, вновь поставленный в Большом театре. Сталин, как уже было сказано, любил балет, но вдобавок обожал комедию как жанр, до слез смеялся на просмотрах советских кинокомедий, слепленных в подражание голливудским образцам.
“Светлый ручей”, поставленный замечательным хореографом Федором Лопуховым, был, как утверждают все видевшие этот спектакль, в первую очередь веселым увлекательным шоу, в котором водевильный сюжет из жизни кубанского колхоза служил предлогом для вереницы эффектных танцевальных номеров. Это была, если угодно, балетная оперетта. Зрительский успех постановки “Светлого ручья” в Ленинграде привел к тому, что Лопухова пригласили повторить ее в Большом театре. Московская премьера прошла с триумфом, и Лопухова немедленно утвердили руководителем балетной труппы Большого театра — назначение, которое не могло состояться без ведома и одобрения самого Сталина.
“Светлый ручей” был, что называется, обречен на то, чтобы понравиться Сталину: яркий, жизнерадостный спектакль, блестящие танцовщики, художник — любимец вождя Владимир Дмитриев (получивший впоследствии четыре Сталинские премии). Наконец, музыка Шостаковича, по контрасту с “Леди Макбет” — незамысловатая, мелодичная, празднично оркестрованная. Вдобавок все это отлично подверстывалось как культурная иллюстрация к тому самому сталинскому лозунгу о жизни, которая стала “лучше и веселее”.
Но вместо одобрения “Правда” 6 февраля 1936 года разразилась погромной “Балетной фальшью”. В этой редакционной статье, хотя написана она несравненно глаже появившегося десятью днями ранее (28 января) “Сумбура вместо музыки”, также можно отчетливо различить специфический голос (или руку) Сталина: “Авторы балета — и постановщики, и композитор — по-видимому, рассчитывают, что публика наша нетребовательна, что она примет все, что ей состряпают проворные и бесцеремонные люди”; “Какие-то люди в одежде, не имеющей ничего общего с одеждой кубанских казаков, прыгают по сцене, неистовствуют!”. Или вот такой, тоже типично сталинский пассаж о музыке балета: “В “Светлом ручье”, правда, меньше фокусничанья, меньше странных и диких созвучий, чем в опере “Леди Макбет Мценского уезда”. Но это не спасает Шостаковича от сталинского гнева: “Музыка поэтому бесхарактерна. Она бренчит и ничего не выражает”. Композитор виноват и так, и этак!
Совершенно очевидно, что Сталин заранее решил подвергнуть создателей “Светлого ручья” порке. Когда он смотрел спектакль, то только искал, к чему бы придраться. Раздражение заводит вождя так далеко, что он начинает звучать как саркастический антисоветчик: “По замыслу авторов балета, все трудности позади. На сцене все счастливы, веселы, радостны”. Казалось бы, это хорошо, за это нужно похвалить? Вовсе нет, и мы буквально видим сталинский указательный палец, размахивающий перед носом создателей “Светлого ручья”: “…не превращайте ваше искусство в издевательство над зрителями и слушателями, не опошляйте жизни…”.
В политике нельзя давать волю эмоциям, даже если это всего только культурная политика. Внесение эмоционального элемента мгновенно путает ориентиры. Немудрено поэтому, что от подобных продиктованных личной сталинской эмоцией руководящих указаний у работников “культурного фронта” голова пошла кругом. Изображать жизнь “однотонно, в зверином обличье” (цитата из “Сумбура вместо музыки”) — нельзя, это понятно. Но изображать, как это сказано презрительно в “Балетной фальши”, “радость” в танцах” — тоже нельзя! Что же можно? На какие образцы равняться?!
В полном смятении газета “Советское искусство” попыталась решить идеологическую головоломку в статье “Против фальши и примитива”: там разъяснялось, что газета “Правда” ведет борьбу на два фронта — против формалистского “мелкобуржуазного новаторства” и, одновременно, “против тех, кто, прикрываясь лозунгом о простоте и доступности, хочет насаждать в советской музыке примитив и тем самым обеднить и обескровить советское искусство”.
Вероятно, работники редакции “Советского искусства” шибко радовались тому, как ловко они выскочили из опасной ситуации. И тут же получили по голове — в третьей анонимной статье “Правды” (“Ясный и простой язык в искусстве”, от 13 февраля): “Это — путаное изображение “двух фронтов”. И первая, и вторая статьи наши направлены противчуждойсоветскомуискусствулжи и фальши — формалистически-трюкаческой в “Леди Макбет”, сусально-кукольной в “Светлом ручье”. Оба эти произведения одинаково далеки от ясного, простого, правдивого языка, каким должно говорить советское искусство. Оба произведения относятся пренебрежительно к народному творчеству. Дело именно в этом, а не в якобы “сложной” музыке оперы и якобы “примитивной” музыке балета. При всех выкрутасах музыка “Леди Макбет” убога, скудна, в худшем смысле слова примитивна по своему содержанию”.
Чье же творчество, чей стиль выражения выдвигал товарищ Сталин в качестве образца, которому отныне должно подражать все советское искусство? Подразумеваемый ответ прост, как все гениальное: это стиль самого товарища Сталина. В лоб это не говорилось, Сталин отнюдь не хотел выглядеть смешным. Но ключей к разгадке в статье “Правды” было разбросано больше, чем в дешевом детективном романе.
Неоднократные противопоставления “простоты и ясности” — “формализму и фальши” проходят через весь текст статьи. А о том, кому свойственны максимальная прямота и ясность, было наконец сказано в передовой “Правды” от 5 марта под названием “Прямой и ясный ответ”: “Прямота и ясность являются характерной чертой всех высказываний и выступлений товарища Сталина”.
Тут уж и другие издания наконец-то сообразили, в чем дело. “Литературная газета” довела до всеобщего сведения (в статье под сверхоригинальным названием “Простота и ясность”), что сталинский стиль — это “замечательный, вдохновляющий художника классический образец простоты, ясности, чеканности выражения и великолепной, мужественной силы правды. Вот чем счастливы мы, советские художники, вот на каких примерах можем учиться мужеству, силе и правде”.
Казалось бы, Сталин мог чувствовать себя удовлетворенным. Недогадливые газетчики в конце концов поняли, что именно имел в виду вождь; по всей стране проходили наскоро организованные собрания деятелей культуры, на которых осуждались “формализм и фальшь” и восхвалялись статьи из “Правды” с их “мудрой ясностью и простотой”. Но не все проходило по плану.
Творческая элита возроптала. Об этом Сталин узнавал из донесений НКВД, часть которых была рассекречена в недавние годы.
Шнырявшие повсюду осведомители сообщали наверх, что ведущие мастера встретили редакционные статьи в “Правде” в штыки. Причем многие из недовольных догадывались, кто стоит за этими статьями, но даже это их не останавливало. Андрей Платонов говорил: “Ясно, что кто-то из весьма сильных случайно зашел в театр, послушал, ничего в музыке не понимая, и разнес”. Друг Ахматовой, видный поэт и переводчик Михаил 3енкевич: “…никто же не думает, что в ЦК сидят знатоки музыки, и, если случайное мнение того или иного из вождей будет сейчас же канонизироваться, то мы докатимся черт знает куда”. Поэт Сергей Городецкий: “…это безобразие писать как закон то, что хочет чья-то левая нога”. Ему вторил писатель Абрам Лежнев: “Ужас всякой диктатуры в том и заключается, что диктатор делает то, что хочет его левая нога”.
Многие высказывались чрезвычайно обидным лично для Сталина образом. Согласно доносам, хорошо информированный Бабель иронизировал: “Ведь никто этого не принял всерьез. Народ безмолвствует, а в душе потихоньку смеется”. Близкий друг Сергея Прокофьева, музыковед Владимир Держановский выразился еще определеннее: “Народ смеется навзрыд, так как оказалось, что партийцы не знают, что сказать о композиторах”.
Тот же Зенкевич возмущался “Сумбуром вместо музыки”: “…статья — это верх наглости, она насквозь лживая, приписывает Шостаковичу такие качества, которых у него совсем нет. Кроме того видно, что статью писал человек, ничего не понимающий в музыке”. Уважаемый ленинградский писатель Виссарион Саянов предъявлял претензии и к “Балетной фальши”: “Вторая статья написана мягче, но все-таки фраза насчет “бесцеремонных и проворных людей” очень неосторожна”. Виктор Шкловский припечатал: “Очень легкомысленно написано”.
Происходило нечто, на наш сегодняшний взгляд, экстраординарное. Мы привыкли думать о второй половине 30-х годов в Советском Союзе как о времени тотального страха, полного единомыслия, абсолютного подчинения диктату партии и государства. Когда я начинал учиться музыке в сравнительно либеральной, еще овеянной западными влияниями Риге 1950-х годов, в воздухе висело и постоянно поминалось партийное постановление 1948 года, в котором Шостакович вместе с Прокофьевым и другими ведущими советскими композиторами обвинялись в формализме. И на моей памяти никто это постановление сомнению не подвергал. Я уверен теперь, что внутри многие кипели, но выказать этого не осмеливались. Каждое слово партийной газеты рассматривалось в этот период как закон — к этому привыкли и воспринимали как должное.
Более того. Когда позднее я познакомился с некоторыми из тех, кто в 1936 году громко возмущался атаками “Правды” на Шостаковича — тем же Шкловским, например, — никто из них не вспоминал с гордостью о том, что они в свое время вслух отрицали право партии и Сталина диктовать им эстетические мнения. А если бы и стали об этом рассказывать, то молодежь им бы не поверила. А между тем их несогласие, их протест были сохранены для истории цепким ухом и быстрой рукой осведомителя. Вот парадокс! (Умиляться иронии истории мешает только то обстоятельство, что в тот момент подобные доносы были весьма реальным “приглашением на казнь”. И в конце туннеля многих, слишком многих эта казнь или другие кары настигли.)
Сталина особенно должна была раздражать реакция музыкантов. Конечно, и здесь на поверхности все было относительно благополучно. Усердные публичные критики формализма вообще и Шостаковича в частности составляли большинство, причем среди них было много бывших друзей и поклонников композитора. Но, как сообщалось Сталину в секретной партийной докладной записке: “Прямые заявления о несогласии со статьями “Правды” были сделаны на собраниях ленинградских критиков и музыковедов <Иваном> Соллертинским и <Александром> Рабиновичем”.
В этом же секретном рапорте Сталину излагалась теория о том, что в деле Шостаковича “существует молчаливый сговор формалистов различных направлений, даже враждовавших в прошлом между собой”. При этом указывалось на поведение двух в высшей степени авторитетных композиторов — ленинградца Владимира Щербачева и москвича Николая Мясковского. Оба никогда не испытывали особых симпатий к творчеству Шостаковича, но после статей в “Правде” сочли делом чести поддержать молодого автора.
Согласно одному из доносов, Мясковский разъяснял свою новую позицию так: “Я опасаюсь, что сейчас в музыке может воцариться убогость и примитивность”. В рапорте Сталину с возмущением указывалось, что подобное поведение является “скрытой формой саботажа указаний партии”.
Возникла опасность, что эти нежелательные для власти настроения начнут распространяться вширь — в “справке” НКВД доносилось, что в Ленинграде “в музыкальных кругах настроение очень мрачное. А около Мариинского театра даже собираются разные люди — музыканты, артисты, публика — и взволнованно обсуждают случившееся”.
Все эти стекавшиеся к Сталину сообщения свидетельствовали об одном: направленные против Шостаковича статьи “Правды” вызвали резкое неприятие и насмешки советской творческой интеллигенции. Сталин должен был воспринять подобное развитие событий как персональный афронт.
Сколько времени и усилий было потрачено вождем на общение с культурной элитой; казалось бы, он уже неплохо разбирался в ее психологии — и вдруг такой неприятный сюрприз! Конечно, мнением подневольных “творческих масс” можно было и пренебречь. Но ситуацию существенно осложняла прошостаковичская позиция Горького, о которой Сталин узнал в середине марта 1936 года.
Продолжение следует
Источники:
- Сталин и Большой Театр. (Из мемуаров Галины Вишневской)
- Cталин и русская опера
- Ленин, Сталин и Путин идут в оперу
-
Алексей Волынец. Блудница и посудомойка.За что в сталинском Политбюро презирали поэтессу Ахматову?
- Соломон Волков. Сталин и Шостакович: случай «Леди Макбет Мценского уезда»
- Дмитрий Абаулин. Накануне «Сумбура»
Читать по теме:































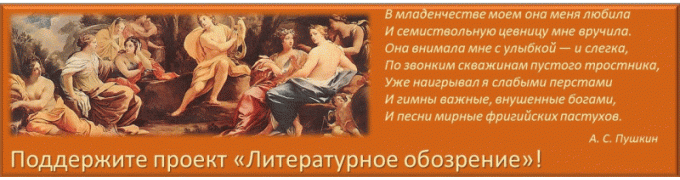


5 комментариев
Да, забавно читать о «вкусе Сталина». Сталина не стало и театра не стало — вот и делай выводы, хорош был вкус или так себе :)
Ага! Понравилось, как она сетует на пыльные постановки сталинских времен. Так это она писала в конце 80-х. А потом, как первая же возмутилась свежими постановками того же Чернякова. Но надо отдать ей должное — возмутилась. Остальные же промолчали. Всё-таки не зря начала карьеру при Сталине. Вкус-то был воспитан.
Вспоминается один вебинар, где прошел «огневой вал» по тонким ногам Гамлета…
сталина давно нет, а совки неистребимы
Неистребима также госсобственность, созданная во времена Сталина и Советского Союза, неистребимо советское образование, данное при совке. Многое чего неистребимо, как и вечные попытки нагадить в колодец, из которого пьют.