 «Я скажу тебе с последней Прямотой:
«Я скажу тебе с последней Прямотой:
Все лишь бредни, шерри-бренди, Ангел мой…»
(Осип Мандельштам)
Новость, которая вызвала «шквал» откликов. Некоторые даже начали почти старчески брюзжать на ленту фейсбука, которая внезапно приобрела литературоведческий характер. Короче, решение Нобелевского комитета …задело за живое.
Естественно не может не раздражать, когда кандидата на престижную награду выбирают по принципу «лишь бы насолить», причем, всем и по всем параметрам.
Почему взвились «кострами», как «синие ночи» различные политические оппоненты и противники, ясно. Лауреатка поспешила озвучить свою позицию и придать ещё большую скандальность своей позиции, дабы принять премию, взгромоздившись на котурны и обрядившись в тогу, благородного трибуна, защищающее нечто такое же не менее благородное. Борец, значит… и страдалица за все хорошее…
Надо же как-то получение «лимона» чем-то оправдать… Потому, что оная сумма денег должна быть начислена за …литературу… А и где она? (я про литературу, если что).
Характерно, что эту слабую позицию обсуждаемого персонажа пытаются как-то завуалировать, отвлечь от неё внимание.
— Никак, я не обладаю достаточной квалификацией, чтобы составить компетентное мнение.
Егор Просвирнин, Sputnik & Pogrom Нобелевка за русофобию
Не скрою, меня откровенно раздражает тезис о необходимости «профессионализма» для оценки творчества писателя. Как занимать должности в хорошо формализованных профессиональных областях деятельности, так там, значит, можно всяких дилетантов устраивать.
А в области творческой реализации, где «продукт» адресуется индивидуально каждому читателю, и где не существует и не может быть жестких рамок ( о чем, кстати, все нынешние «творцы» вопят по поводу и без повода), но где есть единственный критерий — «читательское мнение», им (этим мнением) пытаются пренебречь…
А отчего бы и не пренебречь, когда оно отсутствует, поскольку …»читателя» у этого «автора» и нет…
Сами посудите…
На слуху лишь строчки — «У войны не женское лицо». Вездесущий Садальский , умеющий пользоваться поисковиком, озвучил авторство этих строк — Юлия Друнина (!).
Чтобы познакомить читателя с этим автором составили цитатник.

— Война — это болото, легко влезть и трудно вылезти.
— Если не забывать войну, появляется много ненависти. А если войну забывают, начинается новая.
— Штыком много чего можно сделать, но сидеть на нем неудобно.
— Коммунизм — как сухой закон: идея хорошая, но не работает.
— Когда пожар, люди спят крепче обычного.
— Народ — караван верблюдов, который гонят плеткой…
— Человек должен все время выбирать: свобода или благополучие и устроение жизни, свобода со страданиями или счастье без свободы. И большинство людей идет вторым путем.
— Все сегодня хотят говорить, но никто друг друга не слышит.
— Сейчас времени на чувства ни у кого нет — все деньги зарабатывают.
— Мужчины — они трусы! Бомж или олигарх — нет никакой разницы. На войну пойдут, революцию сделают, а в любви предадут.
— Хорошо, когда в доме есть старики. Когда они живы — мы еще дети…
— Для меня вопрос стоит более конкретно: где я хочу жить — в великой стране или нормальной?
— Меня всегда мучило, что правда не умещается в одно сердце, в один ум. Что она какая-то раздробленная, ее много и она рассыпана в мире.
— Человеческая жизнь не бесконечна, продлить ее может лишь память, которая одна только побеждает время.
— Самая справедливая вещь на свете — смерть. Никто еще не откупился.
Ну и как?… Или старые давно известные «пословицы и поговорки», или доморощенные благоглупости примитивной обывательницы (ау, Пищикова, вот где надо распинаться по поводу мещанства и провинциальности).
(A propos. А у кого сейчас этот пресловутый «читатель» есть? Пока что, наблюдается только «массовый зритель» и «массовый игратель»)
Ну, да-да, некорректно. Под читателе надо понимать массового потребителя «продукта», поэтому в этот текст надо было с самого начала вводить категорию «массовости». Так этому автору и была предоставлена массовость ещё в перестройку. Сейчас звучит информация, что тираж её книги «У войны не женское лицо» был многомиллионный (5 000 000).

Отметим, что это была середина 80-х, период повального чтения и культа книги, период острого интереса к «диссидентской» тематике. Таких стартовых возможностей не было потом. А что в остатке?
Павел Шеремет 2 ч · Киев ·
Светлана Алексиевич — не затворница, не сноб, но и не тусовщица. Каждый белорусский журналист хотя бы раз, но общался со Светланой Александровной. Хотя бы одну ее книгу, но прочитал. Она всегда где-то рядом, но не в толпе, а чуть в сторонке.
Скорее, потусторонняя писательница, полностью растерявшая себя, утратившая собственную личность.
Сейчас начинается мифотворчество на тему о том, что у нобелевского лауреата в области русской литературы вообще имеется личность. Образ жизни сегодня настолько динамичный и подчас изматывающий, что нет времени на сомнительную «литературу» человека, явно не переосмыслившего того, что произошло с ее читателем в последние годы. Уточнения, что Светлана Алексиевич «не в толпе, а чуть в сторонке» для реального человека говорит о том, что она давно не связывает свою судьбу — с судьбой России. Поскольку у нас здесь далеко не лучшие времена.
Возможно, это последствия травли после ее первой книги «У войны не женское лицо», которая накрыла второй волной после «Цинковых мальчиков». Привычка закрываться от ударов и негодования толпы стало свойством ее натуры — избегать шумных …улиц.
Надо же?! Травля была? А кто травил? Власти? ТОгда почему тираж — 5000 000. Или это было «мнение читателей»? Тогда почему — «травля»? …
Давно не впечатляет такое чисто искусственное выискивание «травли», когда все имеют перед собой реальные и вполне однозначные истории травли за настоящую русскую литературу. И чем дальше, тем больше поиск личности Алексиевич в деталях начинает напоминать недавнюю кампанию с «артистками» из группы «Pussy Riot».
Алексиевич — смелый человек, она не избегала скандальных и острых тем, поэтому до сих пор находится много людей, «которые не читали, но осуждают» или «хотел прочитать ее книгу, но прочитал интервью и расхотел читать книгу».
А что это за нравоучительный тон со стороны Павла Шеремета? Каждый имеет право самостоятельно выбрать книгу для чтения. Не в школе. Училка по литературе уже не грозит двойкой в дневнике. Интервью — это вполне себе рекламная акция. Не сумели раскрутить продукт, так нечего и жалится не некомпетентность и ограниченность потребителя. Вон, на «Гарри Потера» ночами в очередях в книжный магазин стояли
Белорусы обижаются на нее за русскую культуру, русские — за белорусскость. Украинцы не обижаются, но подозревают и за то, и за другое).
Много лет позже, когда высказывания на злобу дня забудутся, останутся только ее книги — жесткие свидетельства эпохи, исповеди нескольких поколений.
Но пока послушайте ее первое интервью после присуждения Нобелевской премии.
Ну вот теперь о книгах которые останутся. А они останутся. Чего бы им пропасть?
О том, что Алексиевич «номинантка» на Нобеля можно было узнать в день присвоения из публикации на «Снобе». Там аккуратненько были перечислены авторы, названия их текстов и отрывок из одного из них. Резануло это слово «текст», применительно к кандидатам на самую престижную премию. Она, все-таки, по литературе. Как-то сразу стало ясно, что последней в данном контексте и не пахнет.
Первые страницы «текста» Алексиевич «У войны не женское лицо» на ресурсе либ.ру сразу говорят о …журналистике. В профессиональной информационной среде это называется «сбор данных». Не менее…, но и не более… Критика предупреждает о компиляции очерков.
Помню слабые попытки оппонентов критиковать «литературный язык» в произведениях ИАД… Боюсь, в случае со Светланой Алексиевич критиковать язык не придется, …за его отсутствием. Обычная стилистика рядового школьного сочинения на тему, «как я… поговорил с ветераном»
А кто такой нынче этот «маленький человек»? Кому нужные чувства? И что может предложить маленькому человеку Светлана Алексиевич, кроме хорового пения под ее жестким руководством?
Это награждение является очередной попыткой встать в позу страуса и спрятать голову, делая вид, будто в большой стране, имевшей некогда самую передовую экономическую и социальную систему, лучшее в мире образование, — после развала могут что-то решать или предлагать что-то полезное люди с уровнем Алексиевич.
Но почему пугает полное отсутствие русского языка в ее книгах? Русский язык уже впитал все, что происходило с людьми, все уже переработано и проанализировано. Правда, очень ограниченный круг знает эти произведения, но русский язык, которым не владеет Алексиевич, сегодня вплетает многоголосый хор всех, переживших главную катастрофу века: развал государства, безнаказанность предательства Родины и уничтожения ее главного достояния: достоинства людей, способных создавать и воплощать в жизнь грандиозные задачи, а не паразитировать на общественном достоянии.
Анекдотическое оно потому, что премию по литературе присудили журналисту. Хорошему или плохому — не в этом дело. Человек, который собирает и расшифровывает интервью, — это журналист. Писатель — он сочиняет истории, пересоздает реальность, изобретает язык, стиль и новые способы рассказывания. Ничего этого не делает и никогда не делала Светлана Алексиевич, которую секретарь Нобелевского комитета четыре раза на разных языках назвала «Светлана АлексЕевич».
Само собой, на эту претензию сама Алексиевич успела ответить в большом интервью, которое публика обсуждала неделю-другую назад: мол, в России представления о литературе устаревшие, а я-де пишу в новом сладостном стиле. Правда, с равным успехом в таком случае можно было бы присудить премию по литературе хоть Владимиру Познеру, хоть Ярославу Могутину (последнее было бы, кстати, и свежее, и веселее, да и собственные сочинения у него есть), но до этого еще, видимо, дойдет.
Здесь стоит уже присоединиться к сарказму ИАД, с которым написана эпитафия «Живи и помни» на смерть Валентина Распутина. Она утверждала, что его забудут до конца года. Однако складывается впечатление, что эпитафии ему просто переделали для положительной оценки творчества Светланы Алексиевич.
Марина Разбежкина, режиссер документального кино
Но вот удивительно: если у нас довольно много документального кино, то в русской литературе Алексиевич чуть ли не единственная документалистка. О России можно написать огромное количество документальных романов и пьес, но никто этого не делает.
Я не знаю, почему. Может быть, документальные исследования — это непрестижно для русской литературы, которая занималась вымыслом, похожим на жизнь. Традиция документальной литературы не была уважаема и исчезла совсем в эпоху соцреализма. Но жизнь наша нуждается в документации гораздо больше, чем это есть сейчас. На Западе литература, подобная той, которую делает Светлана Алексиевич, очень востребована.
Перед ожидаемым спичем о «зависти российских писателей», напомню, что это некорректное определение. Все же положительные моменты выискиваются в том, что высокая награда присуждена за русский язык. Но употребить напрашивающееся определение «русский писатель» здесь невозможно, как раз эта категория у нас сегодня лишена права слова. В то же время и в отношении самой Алексиевич столь же одиозно звучит определение «белорусская писательница».
Никуда не деться от сарказма ИАД, поскольку мыслишь на том русском, который уже впитал ее образы. Она неоднократно подчеркивала, что все «общественные кампании почему-то не учитывают развития сети Интернет и того, что цвет нации с начала 90-х является компьютеропользователями».
Действительно, странные обвинения в том, что одна Алексиевич занимается документальной летописью эпохи при наличии развитых социальных сетей, где все «маленькие люди» имеют возможность высказаться без посредничества нобелевской лауреатки.
Уже известны примеры общественного расследования. Нельзя не вспомнить недавний пример с «кислотной атакой» в ГАБТ, давшей полностью документальный роман нашего времени с образами не только вполне реальных людей, но и античных мифических созданий.
Имею в виду, конечно, роман ИАД «Парнасские сестры». Наряду с гарпиями, музами, харитами, мойрами, он включает живые человеческие истории. При этом художественная ткань включает «документальные свидетельства» вплоть до цитирования газетных вырезок. Этим никого в русской литературе не удивишь, ведь и Федор Михайлович Достоевский создавал романы по газетным вырезкам.
Елизавета Александрова-Зорина, писатель— Об Алексиевич сегодня будет сказано много, в том числе немало критического. Российские писатели, умирая о зависти, начнут клеймить решение Нобелевского комитета как политическое. Безусловно, литературные премии почти всегда ангажированы, политизированы и необъективны. Нобелевская премия в том числе. Она не всегда дается за литературу: случается, что ее получает очень талантливый писатель, а бывает, что она достаётся тому, чье имя не стоит и упоминания.
Оказывается, претензии по поводу литературного «качества» текстов к этому автору звучат давно. Об этом проговариваются коллеги.
Борис Пастернак, главный редактор издательства «Время»
— Все получилось! Я был совершенно уверен, что это случится рано или поздно, и мне казались глупыми разговоры о том, что она по каким-то параметрам не подходит: то она недостаточно художественна, то чересчур политизирована… А она тем временем делала свою работу. Подумайте, какой гигантский труд! Она же 30 лет пахала, как папа Карло, и за это время написала всего пять книг. А у нас есть писатели, которые своим долгом считают выкладывать по одной книге в год, а то и по две, и считается, что это хорошо.
Труд Светланы Алексиевич не всегда адекватно оценивался. Поменялась страна, поменялся строй, менялось отношение к ней очень многих людей. Но эти люди были конъюнктурщиками, а она — нет. Слава Богу, что ей хватило сил, что она закончила свой многолетний труд, что начала новую работу.
Да, кстати, тут многие спорят, куда отнести эту победу: в Белоруссию ли, В Россию ли… Мне кажется, сомневаться не приходится. Эта Нобелевка — в копилку русского языка. Светлана Алексиевич — русскоязычный писатель, и ее победа — это наша победа.
Нет, там конечно, есть попытка описать собственные чуйства «как я боюсь войны», «как мне рассказать о страшном маленькому ребенку, и т.д….»
Особенно в свете событий нонешнего времени очень проникновенно вслушиваться в эти «розовые сопли». Публику пугают «не по деЦки» шоу с казнями ИГИЛа. На полном серъёзе в обсуждениях звучит надежда, что маленький мальчик-беженец из Сирии погиб по стечению трагических обстоятельств, а его не «грохнули» сами пиарщики для постановочного фото…
В общем, как-то не очень органично звучат переживания по поводу неженского лица войны сейчас. Особенно «доставляет» опасение, что грязь войны може выглядеть не очень эстетично и не способствует героическим чувствам. Вши и кровь, вишь так отталкивают. Да, так переживать можно было только в благостном 1985 в СССР. А нынче без войны на улицах цапануть вшей и туберкулез не сложно. Или сейчас, все-таки, война? Которая идет уже 25 лет?

— Часто говорят о том, что вы хотите создать каталог кошмара, энциклопедию ужаса.
— Нет, не хочу. Моя задача — сделать так, чтобы ужас нашей жизни стал искусством. Помню, в Афганистане нам показывали захваченное оружие. Я стояла у одной мины, меня поразило, какая красивая вещь, это современное оружие. И тогда полковник, который был приставлен ко мне, сказал: «Хотите, я покажу, что стало с нашими ребятами, теми, кто наехал на эту мину?»
Это было одно из самых страшных воспоминаний в моей жизни. Я никогда не видела, чтобы с бронетранспортера чуть ли не ложкой отскребали людей, чтобы родителям хоть что-то оставить. Это страшно, гадко, не по-человечески. Но об этом надо написать.
— Вот этот вопрос многим непонятен — где заканчивается работа публициста и начинается работа художника…
— Самый тяжелый момент — превратить собранные крупицы в искусство, сделать из хаоса полный коллаж, роман голосов, как я это называю. Это сложно. Как бы это ни странно звучало, я думаю о поэтичности текста, думаю, как выдержать определенный ритм, как отобрать детали так, чтобы не замкнуть человека, а возвысить его.
— Но как можно возвысить человека в условиях документальной прозы?
— Задать какие-то очень главные и специальные вопросы: кто ты, зачем ты, что такое смерть, что такое любовь? Мне интересно узнать широту человеческой природы, путь от человека к зверю и от зверя к человеку. Мне интересно, насколько культура может удержать человека в человеке. Обычно это самые простые вопросы, которые, однако, всегда интересуют и всегда нужны. Моя задача — сделать так, чтобы мой герой был одновременно и человеком времени, и в то же время вечным человеком.
— Вы пишете о совершенно простых людях и сделали для них больше, чем все правозащитники. Но именно от простых людей раздается больше всего хулы. Вас не разочаровывает, что акакиевичи не понимают Алексиевич?
— Я разочаровалась не в людях, у меня существует элемент разочарованности в слове. Кажется, что слова потеряли какую-то ранее присущую им силу. Столько слов сказано, а происходит то же самое, то же зло, те же войны. Я была с теми, кто делал перестройку. Мы радовались и верили в нее, но всё время был вопрос — почему молчит народ, почему не слышно его? Но когда стала слышна эта мифология, которую предложили, — народ заговорил. И то, что он говорит, мы услышали с ужасом. Нам казалось, что эта рабская ментальность исчезла, но, может быть, она исчезла лишь в тонком культурном слое, а на глубине народного бытия ничего не менялось. Люди не поняли, что произошло. Я ездила по России, видела, что написано на автомобилях: «Обама — чмо», «Поднялся бы Сталин». Едет человек на немецком Mercedes, а у него написано: «На Берлин». Читаешь — и приходишь в ужас.
Это говорит нобелевский лауреат за литературу на русском, поэтому приходится всматриваться в ее определения. Хотя, как правило, сама образность русского языка должна была ее избавить от подобных разъяснений.
Читаешь и заранее сожалеешь о судьбе очень недалекой, заурядной и во многом наивной женщины, совершенно не понимающей, что именно она взяла и у кого. Все же в ХХI веке мало заявить, будто «никогда не читал Дедюхову». Раз читать умеешь, то непременно читал, ее все читали, больше читать на русском сегодня нечего.
Если Алексиевич так переживает по поводу судьбы сирийского мальчика, где ее человеческое сочувствие к судьбе девочки из детского лагеря «Дон», избитой под предлогом, будто она «проявляла желания, несвойственные ее возрасту»? А ведь эта постановочная ловушка была рассчитана именно на женщину-писателя, где не высказаться невозможно. Будучи заранее осведомленной, что после этого последует настоящая травля, где придется проявить настоящее мужество.
Если Алексиевич действительно сочувствовала «Цинковым мальчикам», если она на самом деле переживала за судьбы героинь, у которых брала интервью для книги «У войны не женское лицо», то где ее слово о судьбах военных, которых судили за приказы высшего командования? Ведь раз их нет, то эти книги можно рассматривать лишь в качестве глумливой попытки спекуляции.
Участие в действительной жизни общества, освещение реальных событий с незыблемой нравственной основы не вознаграждается. Но придает практически сакральную силу каждому слову. О наигранном «ужасе» Светланы Алексиевич приходится с грустью констатировать, что настоящий ужас и до конца жизни ей уже обеспечен, достаточно заглянуть на страничку ИАД в социальных сетях.
Там всего один пост и… вряд ли он будет переписан. Определения «тупая тяпка» и «полоротая мымра», как все понимают, останутся единственной «оценкой творчества» новой лауреатки в литературе за русский язык.
Нашлось немало людей, посчитавших, что премию ей дали за политику, а писать-то она, дескать, и не умеет. Действительно, что это за писатель, который только говорит с людьми и собирает их рассказы в книги. Но десятками лет заниматься маленьким человеком и его чувствами — многого стоит. Как оказалось, даже Нобелевской премии. Особенно «радуют» комментаторы, откровенно признающиеся, что книг ее не читали, но осуждают за «ненависть к России» — практически слово в слово повторяя знаменитую фразу «Пастернака (тоже Нобелевского лауреата) не читал, но осуждаю».
Читайте далее
Тут и думать не приходится, что избранию на должность гуру в русском языке будет обрамлено спекуляцией на истории лауреатства Бориса Пастернака.
Но главный роман о Гражданской войне «Тихий Дон» Михаила Шолохова получает премию, а вот Борису Пастернаку приходится отказаться от премии. И не совсем по «политическим соображениям», все-таки в русской литературе наиболее важными являются морально-этические соображения, давления которых не выдержал даже Пастернак.
Главные ее книги — про войну. Про Великую Отечественную, войну в Афганистане. Есть книга о чернобыльской катастрофе, которая метафорически тоже про войну — войну человека с неизвестным. Потому что она, по мнению самой писательницы, для русского человека — самая главная мера ужаса, противовес жизни: «Мы или воевали или готовились к войне. Иначе никогда не жили. Мы даже не подозревали, насколько мы — военные люди. Наши герои, наши идеалы, наши представления о жизни — военные». Алексиевич не раз обвиняли в фальсификации истории, развенчивании героических мифов, а советские критики упрекали еще и в пацифизме. Однажды обвинения довели Алексиевич до суда — после выхода ее книги «Цинковые мальчики» матери погибших в Афганистане солдат подали на нее в суд «за клевету».
Голос Алексиевич оппозиционен совсем не тем, что на встречах с читателями она ругает Путина или Лукашенко. Все ее романы-исповеди опровергают главный посыл державного государства, что испытания и страдания укрепляют нацию. Напротив — ослабляют, вплоть до полного исчезновения. Как говорит Алексиевич, собрав сотни свидетельств обычных людей (прошедших Вторую мировую войну, Афганистан или просто живших в СССР), «я начинаю думать, что страдания, напротив, цементируют человеческую душу, она больше не может развиваться. Все-таки для развития человеку нужны счастливые, нормальные условия жизни».
А как же поговорка «Все, что не убивает, делает сильнее»? Читаешь исповедь нобелевской лауреатки и начинаешь догадываться, почему она так удобна Западу. Очевидно, в ее книгах западные люди, испытывающие страх перед любым вопросом о предательстве бывшего союзника в борьбе с фашизмом в 90-х, — черпают уверенность, что все мы такие «маленькие люди», зацементированные в своих страданиях, раздавленные и беспомощные.
Мы никогда не зададим свои вопросы, прежде всего, о тех, кого Запад поддерживал, чтобы ограбить наши жизни и принести страдания.
На словах пожалеть легко. А вот на деле найти в себе мужество и помочь выстоять, это под силу лишь настоящей русской литературе, демаршем против которой и является скандальное присуждение Нобелевской премии.
— «Чернобыльская молитва» (общий тираж на Западе составил более четырех миллионов экземпляров — прим. «Медузы») — по-прежнему ваша самая популярная книга?
— Самый большой интерес сейчас вызывает «Время секонд хэнд» (про девяностые — прим. «Медузы»).
— Мне казалось, девяностые представляют только внутрисоветский интерес.
— Нет-нет, это такая мировая тенденция: вспомнить, понять девяностые и как будто заново их в себе пережить.
— То есть образованное, культурное меньшинство, та самая элита, в спорах о которой у нас тут уже столько копий переломано, в Европе диктует повестку? Вы действительно так считаете? Вы видели это своими глазами?
— Да. Уже давно все в мире поняли, что рационалистический путь развития — это тупик. Просвещенная Европа верит в то, что мир спасет гуманистический человек. И если мы не будем думать об этом человеке, то мы пропадем. И ответственность за это будущее, мысли об этом будущем общество переложило на деятелей культуры. И это бесконечно сейчас проговаривается. Везде. На встречах, на диспутах, даже по телевизору.
— Мне казалось, что истории в этой книге как раз про то, насколько маленький человек, его жизнь и смерть, важнее того, что «мы победили».
— Нет, конечно. Эта книга создана из того, про что они мне говорили: «Света, это не надо печатать». И у меня были конфликты вначале, когда я им давала читать то, что выбрала. Потом перестала, представив, что было бы с «Архипелагом ГУЛАГом», если б его дали переписать героям. Многие мои героини, читая, были в шоке, отказывались от своих слов. Потому что, конечно, «мы победили» стояло за всеми теми историями, которые они рассказывали. Какой ценой победили — не важно. И то, что ничего из этого, никакие эти страдания не конвертировались в свободу — это тоже не важно. Понимаете? Цены жизни — никакой. Весь XX век старательно сводил в нашей стране цену человеческой жизни к нулю.
— Но запрос на перемены все же был. Куда все делось? Почему, если мысленно приклеить 1984-й к 2014-му, то как будто бы никаких драматических перемен и не произошло? Все так же удобно перемещаться строем, голосовать единогласно, коллективно презирать, изгонять или чествовать.
— Я тоже об этом думаю. Никакого урока, никакой награды за такие тяжелые переживания, выпавшие на долю людей в девяностые.
Ни-че-го. Это очень сложный вопрос. С одной стороны, понятно, что причиной этому отчасти какие-то ментальные вещи: исторически рабская психология, например. А с другой — инерция жизни. Инерция уютного мира, зарывшись с головой в который, не хочется никаких переживаний, не хочется ничего замечать и ни во что вмешиваться.
— Обыденность зла.
— Разумеется. Сколько мы сейчас вокруг себя видим маленьких подлостей и соглашательств, о которых молчим? Нормальные люди уже спасают детей и бегут, думая, что, оказавшись в какой-то другой среде, они смогут хотя бы защитить их. Но это единицы, обладающие сверхнепереносимостью зла.
А народ, тот самый народ, на который мы так любим кивать и к которому часто апеллируем, он молчит. Ему, наверное, комфортно. И ничего мы про это не понимаем.
Я отношусь к тому поколению, которое воспринимало перестройку как личную историю, я из тех, кто все это горячо поддерживал, делал, верил. И именно для нас самый больной вопрос: почему все оказалось напрасным, почему народ молчит? Вот, он вышел, сбросил этого Дзержинского и ушел. И все.
— И он — народ — в этом не виноват.
— Нет, конечно, нет. Я сейчас все больше готова говорить о нашей вине, о вине интеллигенции за провал девяностых. Но это будет очень и очень болезненный разговор. И долгий. И с непредсказуемыми последствиями.
Знаете, когда-то выдающаяся армянская поэтесса Сильва Капутикян, которая была в Нагорном Карабахе просто божеством, вышла на высокую трибуну и сказала: «Мы, интеллигенция, виноваты в том хаосе, в той трагедии, которая происходит». Все. Когда она возвращалась на свое кресло, в нее плевали. В женщину. В поэта. Вот так. Словом, нам предстоит невероятно трудная работа по осознанию девяностых, по принятию бремени вины за произошедшее. И это не только с этой эпохой связано. У нас последние сто лет истории не проработаны и не поняты. Просто девяностые исторически ближе. И о них пока что есть с кем говорить — есть свидетели.
— Свидетели того, как джинсы и колбаса оказались совершенно не тем же самым, что свобода?
— В «Секонд хэнде» я сама была потрясена, как много Сталина и колбасы с джинсами! Меня шокировало, что, на самом деле, все происходящее крутилось вокруг вот этих вот вещей. При этом я уверена, что в середине восьмидесятых антикоммунизм, антисоветизм были очень сильны в обществе. Но что произошло потом, когда колбаса в магазинах появилась, но и заводы встали, купить ее было не за что, демократы оказались, как мы знаем, малочисленными и не произвели на свет никаких продуктивных и жизнеспособных идей. Да и сами оказались привержены…
— Колбасе.
— Оказалось, что им тоже есть, что делить. И народ это все видел. И эти девяностые стали травмой для всех. И никто с этим не работает. Внешняя картинка сменилась, но на подсознательном уровне представления об иерархии в обществе, о самом обществе, о месте человека в этом обществе — все прежнее.
Вот я сейчас только что из Вологды. Мы там были вместе со съемочной группой из Швеции, которая снимает обо мне фильм. Мы ездили по чудесной местности, встречались с замечательными людьми: милые, интеллигентные, общительные, ремесла поднимают. С каждым когда говоришь по одиночке — интереснейший разговор. Но когда вдруг начинаешь говорить о политике, какой-то щелчок в мозгах происходит: разговор становится сразу коллективным, вместо я — мы. И они не хотят ни о чем думать. Есть немножко страха, но дело даже не в нем — они не хотят думать! Если в девяностые они просто молчали, то Путин все-таки нажал на какие-то кнопки, достал из глубин их подсознания все эти мифы, и они сработали, потому что — ну, это канва жизни, которая понятна. Не вдаваясь в подробности, люди занялись обживанием нового материального пространства. И этот вульгарный период жизни очень поощряется на государственном уровне. Может быть, его надо пережить? Я не знаю.
И еще одна поразительная история случилась в Вологде. В начале моего выступления зал ополчился на шведскую съемочную группу: им не дали снимать. А потом появилась какая-то другая телекамера. И оказалось, что это снимает КГБ.
Но сама же публика этим засланным казачкам дала отпор. И мне показалось, что я увидела честную картину общества: сначала они выгнали иностранцев, потом молчали, а потом выжили из зала кагэбэшников. Это, конечно, вариант гражданской войны такой. Но совершенно не тот, о каком грезят на всяких прилепинских сайтах: вот, завтра они возьмут винтовки и пойдут. Это в столицах такого рода агрессия. В провинции иначе.
И, разумеется, у «коллективного» человека не существует никакого опыта старости. И покоя. И счастья в этом. У меня есть подруга, актриса. Ей 75 лет, и она говорит о своем друге, с которым играет, что она буквально тягает его по сцене. Он когда-то был заслуженный, великий и так далее, но сейчас — тяжко. Я говорю: «Ну, почему Слава не уйдет?» А она отвечает: «Не знаю». А потом поворачивается ко мне и говорит: «Света, а ведь и я не уйду. Я буду играть кого угодно, но не уйду. А чем мне потом жить?»
Но вот сейчас я стала интересоваться много этой темой времени, старения, вечности. И обнаружила в Петербурге одну потрясающую пару. Две пожилые женщины, подруги, съехались в одной квартире, а другую сдают. На эти вырученные деньги они путешествуют по миру.
В моем жанре автор — свидетель, и автор — главное лицо. Это очень заманчивая и опасная роль. Вот, например, помните «Блокадную книгу»? Там, при обилии живых свидетельств и голосов, которыми наполнена книга, огромное количество комментариев. Назидательных. И очень советских. Особенно это видно в эпизоде из дневника Юры Рябинкина, когда он мучается, взять или не взять эту проклятую котлетку. И это пронзительная, жуткая история. Но нет. Там сверху авторами написано три страницы пояснений о русской интеллигенции. Что же ты делаешь, автор! Ты рядом с этой котлеткой по значимости и не мечтай встать, а ты пишешь, пишешь. Я всегда этого очень боюсь. Каждый раз ищу форму, в которой автор бы существовал прозрачно и не назидательно, но оправдывал бы этот самый авторский выбор, когда из ста страниц интервью я выбираю только полстраницы.
Это от самый «авторский образ», который полностью выметает ИАД, потому что «большая русская проза от первого лица не пишется».
Алексиевич выглядит глупо, демонстрируя незнание уже прописных, азбучных истин. Но в целом от этого награждения веет попыткой вернуть нас в 50-е годы, без учета почти двадцатилетнего пребывания в сети Интернет.
Не учитываются и скандалы, когда некие «авторы» пытались ляпать прозу, составляя ее из чужих заметок, комментариев. Без учета скандала с Михаилом Шишкиным, писавшим что-то свое, авторское — прямо поверх чужих компилированных текстов.
При таком подходе Нобелевский Комитет подложил под свое существование бомбу замедленного действия.
Из разговора с цензором:
– Кто пойдет после таких книг воевать? Вы унижаете женщину примитивным натурализмом. Женщину-героиню. Развенчиваете. Делаете ее обыкновенной женщиной. Самкой. А они у нас — святые.
– Наш героизм стерильный, он не хочет считаться ни с физиологией, ни с биологией. Ему не веришь. А испытывался не только дух, но и тело. Материальная оболочка.– Откуда у вас эти мысли? Чужие мысли. Не советские. Вы смеетесь над теми, кто в братских могилах. Ремарка начитались… У нас ремаркизм не пройдет. Советская женщина — не животное…
Ни в каком самом страшном фильме я не видела, как крысы уходят перед артобстрелом из города.(«У войны не женское лицо», С.Алексиевич)
Я сказал о проблемах, которыми чревато сегодняшнее решение Нобелевского оргкомитета. Не проблемы — скорее неприятности. В ближайшее — и, боюсь, еще очень долгое время — нам будут тыкать в лицо Светланой Алексиевич. Вот, мол, что она говорит и думает, а ведь она Нобелевский лауреат! Говорит она штампами и думает глупости, но не отвертимся.
Совершенно бессмысленным было выступление Дмитрия Быкова, официального биографа такого же нобелевского лауреата Бориса Пастернака, которого «никто не читал», а поэтому решили осудить.
У нас стала расхожей фраза «Пастернака не читал, но осуждаю», но давайте, вдумаемся в ее смысл уже после «Чуда» ИАД, где подробно исследован феномен присуждения Нобелевской премии за литературу, которую никто не читал, но которую отметили высшим признанием вне мнения читателей.
Д.Быков: И хотя Советского Союза больше нет, но русский мир есть. Правда, это не тот русский мир, о котором нам трубят по телевизору. Не мир агрессии, лжи и шовинизма, а мир борьбы за правду, мир доброты, гуманности, мир человечности. И это прекрасно, что награжден автор, который последовательно вторгается в самые закрытые области. Который рассказал первым правду и о катастрофе женской на войне – о том, чем платит женщина за участие в войне. И в книге «Последние свидетели» о детском опыте. И страшные физиологические детали о чернобыльской катастрофе – «Чернобыльская молитва». И о мужестве спасателей, и о том, как ими пренебрегла страна, в конце концов. Это все очень серьезный вклад.
Мне нравится, что Нобелевский комитет наградил человека не за художественные изыски, а за правду и гражданскую позицию.
Но при этом я не стал бы отрицать и большого авангардного вклада Адамовича и его лучшей ученицы Алексиевич в развитие прозы. Ведь эта белорусская традиция, которую Адамович называл «традицией сверхлитературы» — это и художественно очень интересно. Это полифония, такой мощный трагический хор разных голосов, где автор практически убирает себя из книги. Потому что он дает выговориться участникам. Адамович справедливо считал, что писать художественную прозу о кошмарах двадцатого века – кощунственно. Тут нельзя выдумывать. Тут надо давать правду, как она есть. И в этом смысле сверхлитература – литература, которая состоит из вот этих кровоточащих действительно содранной кожи и людских свидетельств – она требует от писателя огромного мужества и очень большого смирения. Абсолютно убрать собственный голос и дать говорить истории. В этом смысле вклад Алексиевич очень серьезен.
Как только заходит речь о «гражданской позиции», самому Дмитрию Быкову надо вспомнить, откуда это словосочетание у него самого? Не из разделов ли авторского блога ИАД? Ни он, ни Алексиевич такого раздела не ведут, да и предпочитают писать за деньги, а нынче платят за весьма спорную «гражданскую позицию».
Здесь никуда не денешься от вклада ИАД, потому что при одном упоминании о «гражданской позиции» и одного слова «Родина» встает ее вопрос: «А у тебя Родина которая по счету?»
У Алексиевич и Быкова нынче с родинами проблем нет. Как у Быкова Россия даже не не на втором месте, так и у Алексиевич Белоруссия идет позади той же Германии.
Интересно отношение Алексиевич к «писательской журналистике», когда человек, у которого она берет интервью, отказывается от тех слов, которые она ему приписала.
Все это весьма напоминает общую реакцию даже на сегодняшнем сером фоне, когда в официальной русской литературе полностью вытравлена полноценная (как правило грандиозная) Личность.
Сейчас тоже все удивляют, что она за «писатель», почему ее никто не читал, почему ее произведения ни разу не пригодились в момент общественного излома. Вплоть до нескрываемого подозрения на счет того, где ей самой пришлось проявить «мужество».
Так, Алексиевич признается, что люди, которых она интервьюировала, удивлялись, когда им показывали расшифровку: я, мол, такого не говорил. Говорит ли это о журналистской профнепригодности? Ну, разве что в том смысле, что журналист вообще-то не имеет права опубликовать не согласованный с интервьюируемым текст. Ну так она и не журналист — она писатель… С чисто же технической точки зрения это значит, что Алексиевич записывает за своими героями не то, что они говорят, а то, что она ждет от них услышать. Разница дьявольская, не правда ли? А ведь это мы еще не знаем, как именно она выбирает, у кого интервью взять…
Оказывается все всё знают. И когда надо «закопать» кого-либо, сразу же нашлась недурно проработанная аргументация ( или она «лежит на поверхности»?), все претензии сформулированы очень давно, и также давно дадена адекватная оценка.
Можно воспользоваться «методом» нобелевского лауреата и скомпоновать «голоса» её критиков, дабы сильно самому не утруждаться.


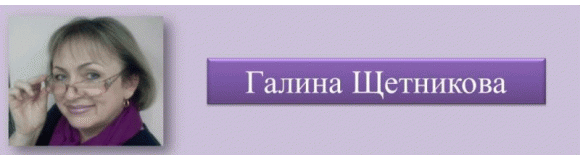


3 комментария
Спасибо, очень познавательно.
С такими чертами лица, с подобной мимикой работала в коллективе одна «мадам». Очень любила выпятить свою исключительность, «глубокое знание» Библии и высокий уровень культуры. Была поймана на незнании текстов Библии. И какой тут понесся фонтан, прям как у критиков Ирины Анатольевны, плевки полным ртом навоза: «Да ты кто, да сначала получи статус, да я с фсб-шниками работала!». Одновременно начались грубые нарушения по работе, «подгонки решения под ответ». К счастью коллектива, «мадам» вскоре уволилась.
Добавлю в цитатник: тупая тяпка, от нобелевского лауреатства, острее не станет.
Нобелевский комитет превратился в какое-то сборище шутников. Обаме- премию мира за ковровое бомбометание. Алексиевич- премию по литературе. А, ну да, ну да. Она же «страдала», эта лауреатка премии ленкомсомола. Клоуны. Нобель в гробу, поди, переворачивается.