Обратно он вернулся мужчиной. После потери девственности прежняя дистанция между ним и однокурсницами резко сократилась. За девушками он отныне наблюдал жадными и голодными глазами, но, как видно, никто с небес так и удосужился выписать ему особый рецепт первой умопомрачительной любви. Ну, может и окидывал он окрестности девичьего базара не вполне купеческим взором, но подсознательно все же подыскивал себе на этом рынке товар высшего качества.
Ну, если не самого высшего, то – по крайней мере – по возможности лучшего, чем-то отличительного: либо по внешности, либо по душевной теплоте, либо по уму, либо по семейному происхождению и достатку. И главное – он и сам ощущал, что выбирает. Ему вовсе не нравилось в себе это новое свойство, но вести себя иначе – он и это чувствовал – просто не мог. Не был способен.
На дворе стояла середина семидесятых. Все вроде бы шло своим чередом, неплохо и как положено, но… Когда до окончания университета оставалось совсем ничего, в семье неожиданно приключилась беда. Внезапно и скоропостижно, от сердечного приступа во время сна, скончался отец – человек на авторитете и положение которого зиждилось все благополучие их маленькой семьи. Никто вокруг этого не ожидал – отцу и шестидесяти не исполнилось, ни на что сколь-либо серьезное он не жаловался, во всяком случае – друзьям и вслух. Впрочем, о служебных своих делах и проблемах он и дома мало распространялся. В общем – судьба.
Удар был сильнейшим. Траур трауром – сам по себе, но к этому добавилось и то, что ни мать, ни сын тогда совсем нигде не работали. Очутившись, однако, лицом к лицу с темной стороной жизни, они все же не остались в полном одиночестве – близкие родственники и друзья отца на первых порах помогали им чем могли. В определенной мере это было возвращением долга, отцу при своей жизни многим приходилось подставлять плечо и оказывать поддержку. Но материальная помощь не могла быть вечной. К счастью, в семье оставались на первых порах кое-какие сбережения, но они скоро подошли к концу и машину пришлось продать – хорошо ухоженная «Волга» трехлетней давности стоила тогда дорого. Жизнь, однако, продолжилась. Вскоре и его золотая студенческая осень подошла к концу, госэкзамены были сданы и диплом – не «красный», но вполне приличный – получен. Пришла пора трудового распределения. Старый друг отца помог ему получить характеристику, необходимую для сдачи экзаменов в очную аспирантуру без прохождения трудовой практики, что открывало дорогу для защиты кандидатской в обозримые сроки. Вообще-то, с формальной точки зрения такая характеристика полагалась только «краснодипломникам», но в те времена отступления от правил были в порядке вещей, допускались под разными предлогами и «волшебное слово» отцовского друга возымело свое действие – необходимая характеристика была предоставлена. Таким образом молодой специалист-филолог окончательно влился в ряды грузинской советской интеллигенции.
Прошло еще несколько лет. Он мало-помалу «вжился» в предложенную научную тему и наладил неплохие отношения со своим руководителем. А вот в партию так и не вступил, поостерегся, хотя студенческий друг его – ставший к тому времени вторым секретарем одного из райкомов комсомола, – и обещал ему поддержку в этом нелегком деле. Все это время хорошо ухоженные и неплохо образованные потенциальные невесты стремились окольцевать передового аспиранта. Первая не понравилась ему внешне, вторая не пришлась по душе из-за стервозного характера, намечавшийся с третьей роман на поверку оказался неудачной пробой пера и вскоре был навсегда изжит из памяти, зато вот четвертая… Это, похоже, было уже всерьез. Да и мать нажимала, очень хотела увидеть сына счастливым и остепенившимся. Поэтому он форсировал события. Особого сопротивления избранница ему не оказала и вскоре молодые сыграли свадьбу. К счастью, невестка пришлась свекрови по душе. Как и полагалось, стали всей небольшой семьей жить в отцовской квартире. Диссертацию он писал в отцовском кабинете, за отцовским столом, сидя в удобном полумягком отцовском кресле, которое могло крутиться во все стороны… Писал, печатал, потом стирал, бывало разрывал исписанные листья на мелкие кусочки, потом опять писал, опять печатал… К третьему году аспирантуры основные контуры будущей диссертации проявились достаточно четко – тем более, что руководитель лично подобрал для нее довольно выгодное и вполне проходное название: «Отражение классовой борьбы на селе в творчестве грузинских писателей двадцатого века». Он и сам частенько посмеивался над таким заголовком, но делать было нечего – так было нужно. А на самом деле литературные пристрастия у него были совсем иными, да и богема не была ему совсем уж чуждой…
В начале восьмидесятых жизнь его немного ускорилась – родился сын, первенец, нарекли его Давидом – ведь отца тоже звали Давид. А вскоре после этого и диссертация была наконец успешно защищена – ни одного черного шарика «против». Почти сразу же он получил место младшего научного сотрудника в институте соответствующего профиля. А потом умер Брежнев – привычный всем лидер великой общей страны, – и смерть его почему-то сопровождалась возникновением каких-то смутных ожиданий. Всю сознательную жизнь он прожил в брежневскую эпоху. Ему довелось выслушать неисчислимое количество анекдотов, посвященных этому старому и больному человеку с невнятной дикцией, да и самому пересказывать их другим невольно этой дикции подражая, но когда эта эпоха наконец завершилась, то понемногу им стало овладевать ползучее чувство умственного треволнения – происходившее, как видно, из общей неопределенности. А вокруг ничего особенного не происходило, все шло «по-брежнему». Молодой кандидат наук вроде уже обладал достаточным опытом для того, чтобы представить себе возможные последствия смены столь пожилого лидера страны на «новую метлу», но ничуть ни бывало – жизнь все так же медленно и мерно, подобно ленивому течению водостока Куры от ЗаГЭС-а до Ортачальских садов после открытия затворов на станции, текла по пыльным тбилисским улицам и улочкам… Ежедневные рапорты в газетах, на радио и в телевидении о новых трудовых свершениях советских людей все более и более отдалялись от этого мутного потока реальной жизни. «Новая метла» на поверку оказалось не такой уж и новой, во всяком случае, попытки «мести по новому» проваливались одна за другой, а окружающая среда становилась все более скучной, затхлой и смрадной. Настоящее болото. Разве что иногда позволял он себе ходить вместе с супругой в театр – на редкие премьеры. И еще изредка в его руки попадала какая-нибудь интересная книжка – как правило, переведенная на русский с какого-нибудь иностранного языка, изданная малым тиражом и приобретенная из под прилавка. Тогда терпкий аромат нового текста хоть как-то возбуждал его в процессе чтения наполняя полнокровной энергией уходившей молодости. Да, это и был аромат чудного прикосновения с бесконечностью. Особенно его привлекали запрещенные или полузапрещенные тексты – овладение, хоть на короткое время, такой книгой или рукописью, всегда воспринималось им как маленький праздник. Во время чтения их у него нередко перехватывало дух – от ощущения странного бессилия. И он никак не мог объяснить себе, чем было оно вызвано: быть может элементарной завистью к разуму и дарованию тех, кто способен столь блестяще играть словами и столь же играючи составлять из них калейдоскоп разноцветных фраз закрепляя их потом в общедоступной бумажной форме. После того как новый текст был прочитан и впитан до конца, у него в мозгу всегда – но лишь на мгновение, на какую долю секунды – рассерженной молнией проносились заковыристые вопросы: Кто я такой? Что из себя представляю? Кому я нужен вообще? Оставлю ли после себя хоть какой-то след и смогу ли хоть в течении какого-то времени продержаться на поверхности потока вечности, или сразу же утону в нем, выпаду в донный осадок подобно мириадам тех, что существовали до меня – людей, которые как бы и не рождалось вовсе? Неужели бессмертия не существует? Неужели и мне суждено рассеяться легкой дымкой в бесконечном космосе? В такие минуты вход в историю казался ему слишком уж узким. Не цивилизованной дверью с бронзовой ручкой и медной гравированной пластинкой, а узкой и грязной дырой, крысиной норой, муравьиной тропкой где-то там внизу, у плинтуса и даже ниже. Проносились молнией эти мысли только ради того, чтобы безответно сгинуть и бесследно улетучиться. А перемены… Год за годом протекал в ожиданий одной законной радости – отпуска на черноморском побережье. Накрепко осталась вбитой в его память история о чуть ли не подпольно снятом одним известным грузинским режиссером художественном фильме, прокрученном немногим позже по всем экранам огромной страны. Фильм этот то запрещали, то вновь разрешали, в общем и целом вроде бы преследовали, но облик и характер того преследования – и это вовсе не казалось для непосвященных очевидным – был каким-то ненастоящим, поддельным, походившим на имитацию. Во всяком случае всем – и тем, кому положено и тем, кому не положено – удалось его посмотреть еще до того, как он появился в широком прокате. Правда, покаяние прошло мимо, ибо мало кому захотелось добровольно и по-настоящему каяться, но фильм все же получился отменный и бьющий по нервам, чувствовалась за ним рука умного и умелого мастера. Великий же смысл картины состоял в том, что все испоганенное коммунистами за прошедшие десятилетия им же и суждено будет исправлять – идею эту жизнь, в конечном счете, опровергла, но в ту пору даже умным людям трудно было бы предвидеть всю никчемность своих усилий. А в Москве один за другим отправлялись к праотцам больные от старости генсеки, соревнуясь в том, кто совершил – если успел – большее число глупостей: от устройства облав в кинотеатрах и столовых в рабочие часы и до повышения цен на водку и шампанское в преддверии Нового Года, от погони за набитым людьми пассажирским лайнером в ночном небе и до выдворения из страны кого-нибудь из всемирно известных писателей, ученых или музыкантов… Страна изнемогала от нелепостей и растущей коррупции. Поезда опаздывали, самолеты падали на землю, атомные станции взрывались, солдаты погибали в каких-то непонятных и тайных войнах, государственные планы и задания выполнялись прежде всего на бумаге, за одной фальсификацией неизбежно следовала другая, и так продолжалось до тех пор, пока волею судеб во главе государства не оказался один бывший комбайнер, вознамерившийся что-то изменить к лучшему в стране. А за эти годы старый партийный товарищ нашего героя успел таки вскарабкаться по карьерной лестнице – привычный мягкий баритон в его голосе сменился на начальственную басовитость, плечи стали шире, да и на работу он стал ходить в другое место – на улицу Чонкадзе, в Центральный Комитет компартии, где ему наконец доверили заведовать одним из секторов.
Но чем больше времени проходило, тем явственнее осмысливал – вернее, ощущал затылком – молодой кандидат наук, что все места в партере уже заняты, а если где-то каким-то чудом и освобождается местечко, например, кто-то умирает или уходит на пенсию, то приобрести счастливый билет на открывшуюся вакансию и трудно, и дорого – и достается он, как правило, более верткому и ухватистому. Очередь в кассу длинная, и у всех свои претензии… Тем временем годы шли, но поколение отцов если и сдавало позиции и ослабляло хватку, то очень уж неторопливо. Но тут уж кандидату наук разочек повезло, привалило заслуженного счастья. На его институт снизошло маленькое чудо, открылась вакансия старшего научного сотрудника и этот долгожданный приз достался именно ему! Решающую роль сыграла директорская благосклонность. Да и полагался ему, в принципе, этот приз – во всяком случае, громких протестов среди коллег его повышение не вызвало. Пожелали они тогда себе и второго ребенка – как не пожелать!
Хотя ежедневный быт поглощал его почти целиком и полностью, но в иные минуты просветления он изнывал от груза тяготивших его раздумий – особенно по ночам. Он мучился от понимания того, что жить так, как он сейчас живет – слишком негромко, невнятно и буднично, некоей беззубой «вещью в себе», – более невыносимо, стыдно, негодно. Ощущение того, что жизнь проходит мимо, крепло день ото дня постепенно превращаясь в выстраданное убеждение. И никакая будущая докторская не могла это убеждение поколебать, послужить ему должным противовесом. Нет, так больше не могло продолжаться. Все более склонялся он к простенькой мысли о том, что лишь крепкая затрещина – или даже целый ряд таких затрещин – помогла бы вывести страну из ступора. Мысль эта, разумеется, носила чисто теоретический характер, однако… Все чаще приходилось ему сталкиваться с подобным, насквозь пропитанным чувством протеста настроем при случайных встречах и неслучайных беседах с друзьями, близкими родственниками, даже соседями и, тем более, с интеллигентными институтскими коллегами. И ведь вроде никто больше не боялся говорить вслух, высказывать все наболевшее как на духу! А сколько раз ему самому приходилось во время посиделок со своим старым, верным и испытанным другом – и что с того, если одновременно и с номенклатурщиком-партфункционером – обсуждать за бутылкой выдержанного коньяка приправленной бутербродами с икрой из цековских кладовых, текущие события и выступать с пламенными контрреволюционнными тирадами после третьей или четвертой рюмки. Впрочем, совместный вывод в ту пору звучал приблизительно так: ну нет, этого строения так просто никому не дано разрушить, это все игры, на наш век советской власти хватит!
А тем временем прочно завладевший высшим кремлевским креслом бывший комбайнер, как говорится, окончательно закусил удила. Не думая о последствиях развернул лютую антиалкогольную кампанию – и где? В стране где искони веселие было пити почти для всех – от мала до велика. До этого, до антиалкогольного крестового похода и впрямь – безотносительно от степени благородства первоначального замысла – надо было суметь додуматься! Правда, общество еще не успело забыть прежних строгих порядков и порядком поднадоевших «геронтократов», поэтому новому лидеру многое пока прощалось, но звать его за глаза «минеральным секретарем» простые люди из очереди все же начали. Будучи на вершине популярности свои длиннющие выступления перед внемлющей ему публикой он совершал с непривычной легкостью, говорил свободно и без бумажки – но что с того, если любая популярность преходяща? Все равно вычленить полезный осадок из его многословия и тогда было делом крайне неблагодарным и многие почитали его речи за словесное недержание и брехню, хотя на первых порах и воздерживались от критических замечаний. Действительной неожиданностью в его деятельности стало то, что в телекартинке он часто показывался рядом с супругой, а отправляясь в зарубежные вояжи с государственными визитами, как правило, не забывал брать с собой и «первую леди», – тем самым немало раздражая массу обывателей, ибо подобной традиции в стране не существовало (хотя многие в душе просто завидовали дерзости генсека). Главным же оказалось то, что иностранцам этот деятель нравился куда больше, чем согражданам, что было несколько неприятно, но имело и положительную сторону – закрытое и ограниченное по периметру общество постепенно, но необратимо открывалось по отношению к внешнему миру и (а это было, пожалуй, важнее всего) вполне реальная опасность новой большой войны понемногу отступала на задний план. На фоне безудержного роста всеобщей общественной настырности и прилива смелых гражданских чувств отстраненно сидевшие дотоле в партере и ложах вип-персоны заметно взволновались, в амфитеатре поднялись галдеж и оживление, а длинная очередь к кассе наконец зашевелилась. А больше всего поражало то совершенно необычное обстоятельство, что где-то там в туманных далях, за пределами этой галдящей первоначальной очереди – и на бестолковых периферических улочках, и в невзрачных переулках, и на загазованных широких проспектах, и на роскошных центральных площадях, – пришла в движение бесформенная и неодушевленная людская масса казалось бы лишенная всяких примечательных свойств, все те маленькие людишки, которых ранее никто не замечал, а если и замечал, то только в своих личных корыстных интересах, да и то в самых крайних случаях. Все эти анонимные трудящиеся, учащиеся, пьяницы и бездельники: колхозные крестьяне, разнообразная шоферня, продавцы в магазинах, санитары в больницах, трактористы в полях, машинисты электровозов, домохозяйки, студенчество… Новая эпоха надвигалась на старую шумно и грозно, а улице, как оказалось, только этого и было надо – знака чтобы свободно и недозволенно выйти из берегов… Подневольная работа от девяти до шести постепенно становилась ненужной, излишней, почти бессмысленной – во всяком случае, каждодневное хождение в родные институтские пенаты стремительно теряло в цене и весе – редкие публикации в местных журналах уже мало кого интересовали. Извлеченная из собственных трудовых усилий прибыль все более отождествлялась с прямым товарообменом, а содержать семью привычными и предусмотренными законодательством способами становилось все труднее и труднее, вплоть до невозможности. Зато города заполонили кооперативные столовые, толкучки на тротуарах, рынки на стадионах и получастные магазинчики и киоски в которых продавалось буквально все. Пока обычные трудяги «от девяти до шести» по старой привычке почесывались у себя в затылке, никому неизвестные оборотистые анонимы беззастенчиво набивали себе карманы, но взамен в стране появились невиданные дотоле потребительские товары и продукты – правда, втридорога. А «минеральный секретарь» продолжал убаюкивать сладкими речами своих незлобивых простодушных поданных и разъезжать под ручку с «первой леди» по зарубежным странам. Растерян был мир и растеряна была Грузия. И неудивительно, что наш достославный молодой филолог тоже растерялся…
Но самым непривычным было все же безнаказанное проведение на открытых городских пространствах многолюдных митингов и собраний, на которых какие-то молодые люди почти в обязательном порядке размахивали самодельными флагами и флажками самой различной расцветки. Особенно бросался в глаза ранее запрещенный и подпольный трехцветный – с белой и черной полосками на багрово-коричневом фоне – флаг независимой Грузии. Когда он впервые увидел реющее на несанкционированном митинге цветное полотнище совсем рядом со зданием правительства на проспекте Руставели, то им овладело ранее никогда не испытанное чувство: странная смесь удивления, гордости и страха. А в те дни его посетила и другая, долгожданная радость – у них родился второй ребенок, девочка. Ей назвали Хатией – Иконкой.
Но все то были – как потом выяснилось – цветочки. Ягодки вызрели потом, позже… Время сжалось и сократилось, выплескивался на улицу весь накопленный за предыдущие десятилетия гной. Провокации, танки, рукотворные плотины на железнодорожных путях, демонстрации, митинги, разгоны митингующих, обрушение прежней системы, ежедневная антироссийская брань, грязь и помои в прессе, всеобщая агентомания, сепаратизм в провинциях, самоликвидация компартии, всего и не перечислишь… Некогда всесильное ЦеКа закрылось и за ним последовали дочерние райкомы. Потерявший работу его давний приятель с сожалением сдав куда положено украшенный молодцеватым ленинским профилем партбилет, ключи от рабочего кабинета и пропуск, тоже попрощался с вожделенным зданием на Чонкадзе, хотя – в отличии от многих своих коллег и сотоварищей – совсем без дела долго не оставался. Вскоре ему удалось устроиться в аппарат созданного тогда же общества Руставели и потом время от времени выступать на разного рода небольших собраниях с умеренно-патриотичными речами.
Ну а потом… Потом всеобщая смута породила государственный переворот, за которым последовали – в полном соответствии с логикой – война, тьма и голод. Причем все это одновременно, в одном флаконе и в прямом смысле: война означала стрельбу и смерть, тьма – отсутствие электричества и света в домах, а голод – вырванные с боем из громадной ночной очереди несколько буханок хлеба, которые потом менялись на соответствующее количество картошки в каком-нибудь населенном азербайджанцами-картофелеводами приграничном селе. Потом вместо рублей в оборот ввели «купоны» и какие-то оборотистые ребята очень сильно нагрели на этом руки, хотя в то же самое время его и так уже весьма символическая зарплата полностью обратилась в инфляционную пыль. Под влиянием ситуации и будучи вынужденным озаботиться о пропитании своей семьи, как-то раз он и сам попытался приобщиться к бизнесу – занял у ростовщика приличную сумму денег и завез из Турции довольно крупную партию подержанной, или, как тогда называли, «вторичной» одежды, но сказалось отсутствие необходимых навыков и способностей – конкуренция в этой области оказалась слишком высокой и он едва не прогорел, никакой прибыли, вырученных денег хватило лишь на возвращение долга. Ему еще повезло, тогда было столько куда более печальных примеров – от безнадеги голова могла пойти кругом. А дети тем временем подрастали, их надо было кормить, да и жена пока еще была недостаточно стара, чтобы махнуть рукой на мелкие радости жизни. Поэтому понемногу им пришлось выносить из дома вещи на продажу, иного было не дано… Когда-то купленные матерью сервизы, доставшийся от отца в наследство какой-то ценный российский пейзаж, несколько дорогих старых фолиантов – все за копейки, а под конец немецкое пианино в хорошем состоянии… И он ни разу даже не попытался взять в руки настоящее оружие – то, из которого убивают, – нет, не таким он был человеком, совершенно не таким… Хотя бывало – под влиянием не до конца устраненных мальчишеских импульсов: он очень ясно представлял себе как следовало бы устроить жизнь – сперва страны и общества, а потом и свою, личную. Вот если бы вдруг он стал президентом… Ведь и президенты тоже обычные люди, пара рук, пара ног… Но потом он быстренько приходил в себя, вдруг донельзя отчетливо понимая, что президентами так просто и случайно не становятся, и что все это – ненужные фантазии…
(Продолжение следует)
Читать по теме:
А так же:




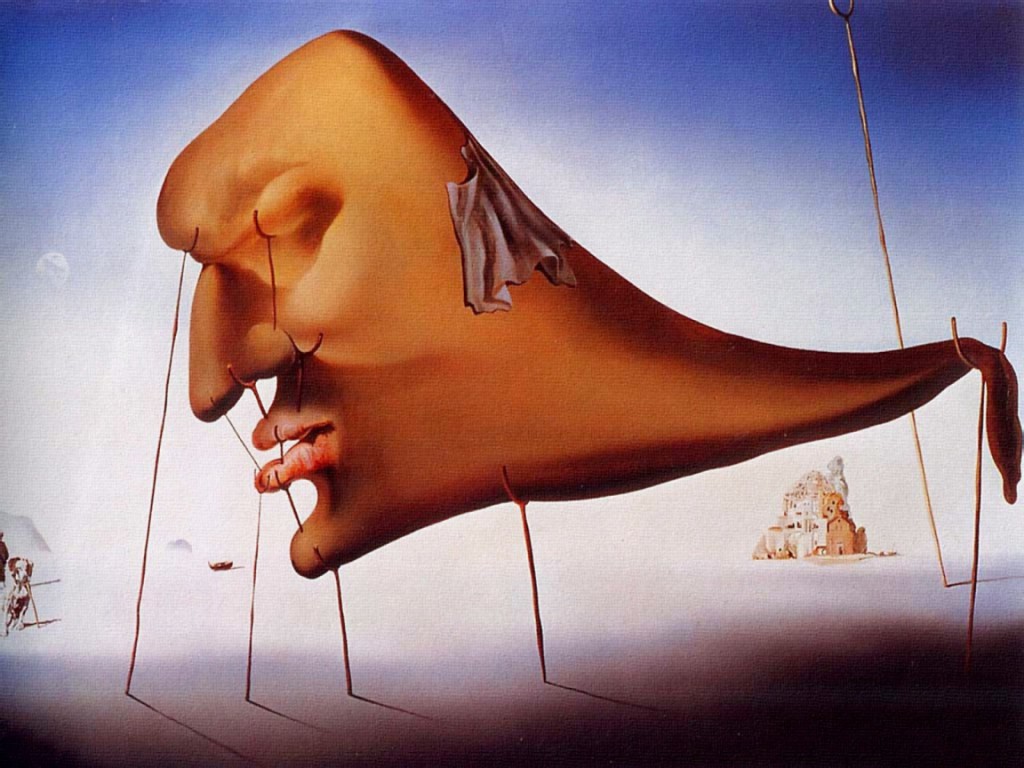



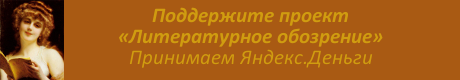


1 comment
Большое спасибо, Георгий!