Стоит лишь начать сравнивать М. Е. Салтыкова-Щедрина и Ф. М. Достоевского, тут же сталкиваешься с примиряющими замечаниями, мол, это — «два замечательных русских писателя, высоко ценимых как своими современниками, так и нами, их потомками«.
Но уж очень разные получились «потомки», не слишком однородные. Одни считают, что им можно запросто стать «эффективными собственниками» на государственном достоянии, уничтожить 30 миллионов соотечественников, «не вписавшихся в рыночные условия»… Да и чего ж жалеть этих убогих и ненавистных «глуповцев» из «города Глупова»?
Другие привыкли задумываться, какое счастье можно получить, какую веру сохранить в душе, не заметив крошечной слезы совершенно чужого ребенка… И сколько же надо вынести самому, чтоб написать такие слова, неизменно трогающие душу: «Понимаешь ли ты это, когда маленькое существо, еще не умеющее даже осмыслить, что с ним делается, бьет себя в подлом месте, в темноте и в холоде, крошечным своим кулачком в надорванную грудку и плачет своими кровавыми, незлобивыми, кроткими слезками к «боженьке», чтобы тот защитил его…»
Разные получились у этих двух писателей потомки, что и говорить. А будущее различие резко проявилось в конце 50-х годов, когда прошедший муки Достоевский явился покорять литературный Олимп с «Селом Степанчиково и его обитателями» и презабавнейшим «Дядюшкиным сном».
До сих «достовско-еды» пытаются примирить непримиримое — Федора Михайловича и Михаила Евграфовича. Не касаясь пока самого уровня таланта и литературного дарования, посмотрим, где истоки этой неприязни? Вроде бы и повздорили-то из-за сущего «пустяка»!
Взгляните, как, по мнению некоторых, все «просто»!
Они жили и творили в один и тот же исторический период. Общество, которому они принадлежали, круг знакомств, а также предмет их литературных интересов были примерно одинаковы. Однако кажется, нет более разных авторов. В чем же их отличие? Есть ли черты схожести в их творчестве? Ведь свела же их вместе судьба в кружке петрашевцев. Просто Салтыков в 1847 году с петрашевцами порвал, а Достоевский прошел за то же казнь, каторгу и солдатчину.
И, главное так «просто», если учесть, что в 1858 году, когда Достоевскому наконец вернули дворянство, что позволяло печатать ему свои сочинения, Салтыков уже вице-губернатор в Рязани, а в отсутствие генерал-губернатора и сам его замещает.
Не находите ли вы, что Салтыков уж очень своевременно вдруг покинул кружок петрашевцев, нисколько не изменив подчеркнуто «радикальные» взгляды, сделав головокружительную карьеру, нисколько не прерывая своего «пробуждения народа» и «бичевания недостатков всего общества».
Причем, обставлено все было с Салтыковым вполне благообразно, без ожидания расстрела, каторги и поражения в правах. Якобы за «вредную повесть» (которая к тому времени, скорее всего, пока не была написана, но точно не опубликована) его ссылают в г. Вятку, но в должности, без лишения прав, без этапа, на хлебную должность.
Все просто? Но именно так, убравшись восвояси от лишнего скандала, — и сегодняшние «оппозиционеры»-провокаторы делают карьеру по провинциям, изощряясь в «вольнодумстве».
Достоевский не предает Салтыкова, стараясь вообще не говорить ничего лишнего, никого за собой не тащить. Для него это совершенно недопустимо, он человек чести, настоящий мужчина.
Глядя на сегодняшних «писателей», тоже не чуждых «бичеванию», уже можно и не сомневаться, что из них никто не чувствует внутреннего напряжения от бесстыдной той «простоты», с которой они вначале «пробуждают», а после оказываются «ни при чем».
Строчку из показаний Достоевского о Салтыкове считают чуть ли не «доказательством», будто он и в самом деле не был знаком с Салтыковым, стараясь не замечать «непонятной» эмоциональности, с какой он воспринимал любое замечание этого маститого литератора, имевшего одновременно и славу крутого «радикала», и хлебные должности в заклейменном позором Отечестве.
А на мой взгляд, в таком совмещении действительно все очень просто. Не знаю, как вам, а мне такую «простоту» в своей жизни доводилось встречать не единожды. Уверена, что Достоевскому было что сообщить под протокол о своем куда более тесном и продолжительном знакомстве с Салтыковым-Щедриным.
Но он этого делать не стал, а все дружно подхватывают строчку из протокола его допроса, после которой он пошел вначале на расстрел, потом на каторгу. Подумать о его порядочности и щепетильности — никому и в голову не приходит, хоть и по литературному дарования — это совершенно несопоставимые личности. Лишь бы оправдать Салтыкова-Щедрина, занятого собственным благополучием!
А когда человек возвращается с каторги — многие и более близкие люди нарочно делают вид, будто с ним вообще не знакомы. Все просто!
…настоящее знакомство Достоевского с Салтыковым-Щедриным состоялось в конце октября — начале ноября 1861 г., когда Салтыков- Щедрин приезжает из Твери в Петербург и встречается с Достоевским, пригласившим его участвовать во «Времени». Сам Салтыков-Щедрин вспоминал: «В 1861 году я приезжал в Петербург и случайно свиделся с Ф.М. Достоевским, который, между прочим, весьма убедительно приглашал меня к участию, даже, так сказать, упрекал в равнодушии к вновь возникшему журналу <…>. Я согласился на сотрудничество и послал «Недавние комедии». Затем, по закрытии «Современника», я послал во «Время» еще несколько очерков…». К 1862 г. относится сотрудничество Салтыкова-Щедрина в журнале братьев Достоевских «Время», в котором в этом году появились «драматические сцены» «Недавние комедии» («Соглашение» и «Погоня за счастьем» — № 4) и очерки «Наш губернский день» («У пустынника», «Обед», «На бале», «Заключение» — №9).
Но далеко не все бывают столь «убедительны» к случайным знакомым. Как впрочем, не все привозят с каторги милые вещи, написанные в бессмертной «традиции» Гоголя и Пушкина, да еще кой-кого, чья слава глаза застит, — прервав «литературную беседу»…
Он, оказывается, «развеселить хотел», когда уж совсем иное «веселье» намечалось! А историйки-то про «дядюшкин сон» и пресмыкательство провинциального общества перед вполне прозрачно изображенными «бродячими философами», занятыми «хождением в народ» («Я знаю Русь, и Русь меня знает!») — «почти безнравственны».
Немного до полной безнравственности не хватило, «традиционность» и «бытописательство» помешали.
Толковый словарь живого великорусского языка В.Даля — «БЫТОРИТЬ» — (будоражить) перм. кричать, шуметь.
Толковый словарь русского языка Д.Н.Ушакова — «БЫТОПИСАТЕЛЬ» — бытописателя, м. (книжн.). 1. Историк (устар.). Карамзина звали бытописателем земли русской. 2. Автор произведений, в к-рых описывается быт.
Современный толковый словарь русского языка Т.Ф.Ефремовой — «БЫТОПИСАТЕЛЬ» — бытописатель [бытописатель] м. 1) Автор произведений, в которых изображается быт, повседневная жизнь. 2) устар. Историк.
Как видим, с той поры, когда слово «бытописательство» понемногу устаревало, много воды утекло. Первоначальный смысл из словаря Даля почти забылся. Но в ходе его современного возрождения в виде «физиологических очерков», стоило бы вспомнить, что первоначально оно носило достаточно негативный смысл.
Спекулировать «бытописанием», выискивая в нем только негативное, по словарю Даля означало «скандалить». А ведь так и бывает в наших семейных бытовых склоках. Так и говорят — «быт заел».
Нет ничего великого, нравственного и даже порядочного — в утрировании бытовых деталей, в выделении в качестве главного — мелочных, неприятных подробностей, от которых хочется, напротив, — отойти душой в искусстве.
В бытописательстве нет истории, развития сюжета, это несвязные фрагменты, созданные ради одной бытовой подробности, чтобы «измотать душу», как мотают ее друг другу надоевшие друг другу супруги, припоминая взаимные прегрешения, окончательно руша семейный очаг.
Но какое же отношение к «бытописательству» имеют эти истории Достоевского? Ровным счетом никакого! А вот у Салтыкова-Щедрина и к возвращению Достоевского так и не возникло той «повести», за которую его когда-то отправили «в ссылку», то есть делать карьеру в провинции.
Повесть «История одного города» он начнет публиковать бытописательскими фрагментами лишь с 1864 года, вызвав эти резкое возмущение Достоевского. А до этого сам Салтыков-Щедрин пишет очерки по причине незначительного литературного дарования и вторичности, попутно обвинив Достоевского — именно в «очерковости».
Вспомните то отвратительное впечатление, которое наверняка испытали, ознакомившись с «Историей одного города». Впервые подробный разбор этого произведения прочла только книге Дедюховой И.А. Нравственные критерии анализа. Часть II. До этого чувствовала себя девочкой, побоявшейся сказать «а король-то голый!» Такой глуповкой из города Глупова…
Но стоило заинтересоваться отношениями Салтыкова-Щедрина и Достоевского, как с удовольствием убедилась, что и Федор Михайлович абсолютно не принимал «идейно-художественной манеры» Салтыкова-Щедрина, считавшего Россию «городом Глуповым», а ее жителей, то есть потенциальных читателей — глуповцами.
«Подлость и мерзость нашей литературы и журналистики и здесь ощущаю, — писал Достоевский из Женевы своему другу, поэту А.Н. Майкову 18 февраля (1 марта) 1868 г.
— И как наивна вся эта дрянь; «Современники», н<а>пр<имер>, лезут на последние барыши всё с теми же Салтыковыми и Елисеевыми — и всё та же заскорузлая ненависть к России, всё те же ассоциации рабочих во Франции и больше ничего. А что Салтыков на земство нападает, то так и должно. Наш либерал не может не быть в то же самое время закоренелым врагом России и сознательным. Пусть хоть что-нибудь удастся в России или в чем-нибудь ей выгода и в нем уже яд разливается»;
«Щедрин, это уже не смех, а какое-то гоготание издевательства»;
«Фельетониста талантливого у нас трудно найти; сплошь минаевщина и салтыковщина» (из письма Достоевского Н.Н. Страхову от 26 февраля (10 марта) 1869 г.;
«Щедрин — всю свою стаю Глебовых, Михайловских, Елисеевых» (из «Дневника» 1881 г.);
«Когда-то, лет сорок назад, отвели Щедрина в участок, и вот он напугался» (из «Дневника» 1881 г.);
«Тема сатир Щедрина это — спрятавшийся где-то квартальный, который его подслушивает и на него доносит; а г-ну Щедрину от этого жить нельзя».
Но не только Салтыков-Щедрин Весь кружок любителей «пробуждать народ» не воспринимает «бывшего каторжника» — «своим», считая, будто они, их слово будет что-то значить для читателей. Вспомните унылые «Былое и думы» Герцена или литературоведческую муть Добролюбова… что, неужели не вспомнили?
— А… этот-то? «Луч света в темном царстве»… Что, в школе на счет этого губастика жилы не тянули? А у меня с ним во втором классе пачка тетрадей в косую линейку была, я тогда этого очкарика возненавидела. Как чувствовала! До чего ж он неискренне и показательно этой Екатериной восхищался! Хотя по физиономии было видно, что всех женщин ненавидит. Представляю, что бы он ответил, осведомись у него такая Катерина: «Гражданин, вы, случаем, не в курсе, почему люди не летают?» Он бы ей прочел пару моралей про ожидание революции.
А она типа, так бы типа взяла б, да полетела! В особенности, когда муж из дому свалит. Несостоявшаяся «Леди Макбет Мценского уезда», проходная вещица, совершенно напрасно возвеличенная. У Островского и куда более серьезнее вещи имеются, хотя так и не сообразил, почему при нем старые коллежские чиновники глумились над молодыми министерскими. А эта дрянь про Кабаниху… Видно, к радикалам хотел подольститься, дешёвка.
Как вы поняли, это я решила у нашего классика на всякий случай навести справки по Добролюбову, поленившись просто обратиться к поисковику. Мне показалось, что будет проще обратиться к Ирине Анатольевне, проверив заодно и собственные впечатления. «Луч света в темном царстве» вызвал почти забытый, привычный с детства приступ тошноты.
О Достоевском Герцен заметил, что он писатель «не совсем ясный», огромного дарования, начитанности и недюжинного, но экзальтированного ума. Герцену вторил прямодушный Добролюбов: к произведениям Достоевского нужны «дополнения и комментарии».
Прочла этот пассаж об «объективности» всех, кого «пробудили декабристы», и сквозь строчки услышала язвительный голосок Дедюховой: «А… этот… Сам бы молчал, «сорока-воровка»!»
И если кому-то покажется, будто Ирина Анатольевна здесь изменила себе и начала «развешивать ярлыки», почитайте г-на Борщевского, где вся книга о разногласиях Достоевского и Салтыкова-Щедрина написана удобными политическими ярлыками.
Православного монархиста Достоевского, каким он вернулся после каторги и ссылки, отталкивал революционный демократизм Салтыкова-Щедрина с либерально-западническим оттенком (С.Борщевский «Щедрин и Достоевский: История их идейной борьбы». М., 1956).
Стоило бы добавить, что лично мне все эти тома «комментариев» ничего добавили ни к Достоевскому, ни к Салтыкову-Щедрину… до нескольких комментариев Ирины Анатольевны на вебинаре по «Селу Степанчиково и его обитателям».
Впрочем, может мы ошибались на счет Салтыкова-Щедрина? Человек особенный, возвышенный… да и не шут гороховый, губернатор, а не приживал!
Давайте посмотрим, как же противопоставляют «идейно-художественные» методы двух крупных антагонистов своего времени те, кто сегодня их продолжает «исследовать»… вполне философски, стараясь найти «порядочность» там, где ее не ночевало, отказав в порядочности гордости русской литературы.
Вспомним для начала непревзойденное резюме И.А. по поводу того, что относится к литературе, а что ею не является: «Писатель — это не тот, кто «ставит вопросы перед всем обществом», а тот, кто находит ответы на самые сложные и болезненные вопросы всего общества«.
Достоевский принадлежал к тем художникам, которые верно могут ставить вопросы и столь же верно отвечать на них, или не отвечать совсем, или отвечать, но неверно.
Однако у Достоевского не было той степени материальной и финансовой независимости, которой обладал Салтыков-Щедрин. Деньги позволили Салтыкову сохранить независимость от издателей, исключили из жизни драматическую составляющую. Салтыков бесстрашно смотрел в глаза действительности, Достоевский трепетал перед ней.
Как выясняется, достаточно просто «ставить вопросы перед всем обществом», имея материальную обеспеченность. Тут можно и на независимости от издателей сыграть, попытавшись обобрать бывшего каторжника с «Селом Степанчиково». Мол, мало еще Достоевский «трепетал перед жизнью», не зная, как заплатить за снятый угол.
Да и кто ж из прогрессивных людей своего времени мог допустить, будто каторжник, не имевший достаточных средств, мог верно решить наболевшие вопросы?..
Отсюда разные идеологии: революционная у Салтыкова-Щедрина и христианская, православная у Достоевского.
Щедрину казалось, что он знает и понимает современность, Достоевский просто принимал ее сердцем.
Щедрин отрицал судьбу, рок, предопределение, Достоевский рассматривал всякое несчастье и всякую погибель как «нечто роковое и неминуемое», — результат игры слепых сил.
Идеал Щедрина носил рассудочный, социально-политический характер, Достоевский искал спасения в нравственном обновлении, на пути к Богу.
То, что для Щедрина было сатирой, для Достоевского было трагедией. Поэтому наследие Щедрина — это сатира на общество, в котором он жил, а наследие Достоевского — трагедия породившей его цивилизации.
Я бы еще в этом сопоставлении добавила, что Достоевского все же «породила» цивилизация, уважительное отношение к людям и читателям, забота о тех, кто доверил ему душу. А материальная обеспеченность Салтыкова-Щедрина, а главное, пути ее приобретения — сделали не просто «требовательным» известного «очеркиста», а нетерпимым к людям. Видно, но не все так уж «просто» было с давним протоколом допроса по делу петрашевцев…
В литературной критике, однако, Салтыков-Щедрин не уступал в желчности Достоевскому. Обидно лишь, что при этом не замечал бревна в собственном глазу.
…Салтыков-Щедрин включил в свое обозрение «Литературные мелочи» «драматическую быль» — памфлет «Стрижи» — пародию на вышедшую в конце марта 1864 г. первую часть «Записок из подполья», где Салтыков-Щедрин показал, что он абсолютно ничего не понял в этом гениальном произведении Достоевского, так как высмеивая в сатирической форме сотрудников журнала «Эпоха», он под видом «стрижа четвертого, беллетриста унылого» изобразил Достоевского, который, излагая содержание своего нового произведения, говорит: «Записки ведутся от имени больного и злого стрижа. Сначала он говорит о разных пустяках: о том, что он больной и злой, о том, что всё на свете коловратно, что у него поясницу ломит, что никто не может определить, будет ли предстоящее лето изобильно грибами, о том, наконец, что всякий человек дрянь и до тех пор не сделается хорошим человеком, покуда не убедится, что он дрянь…»
На вебинаре И.А. заметила, что не столкнись Достоевский с таким отношением со стороны «демократов», у нас, возможно, был бы искрящийся юмором второй Гоголь, которого без конца цитирует/пародирует Достоевский пафосными устами Фомы Фомича.
Это сказал, кажется, Гоголь, писатель легкомысленный, но у которого бывают иногда зернистые мысли.
Меня нисколько не обманули имеющиеся свидетельства о том, что Салтыков-Щедрин «высоко оценил роман «Идиот». Думаешь, а как бы он это оценил — «невысоко»? Однако свидетельство о «высокой оценке» этого романа — автором пассажа про «глуповцев», среди которых он поправил свое материально-финансовое положение, — может лишь оттолкнуть неопытного читателя от знакомства с этим литературным шедевром.
Некоторое сближение между Достоевским и Салтыковым-Щедриным началось в 1874 г., когда встал вопрос о печатании «Подростка» в «Отечественных записках» Н.А. Некрасова и Салтыкова-Щедрина (роман был напечатан там в 1875 г.), причем шаг навстречу Достоевскому сделали Н.А. Некрасов и Салтыков-Щедрин. Начинаются личные встречи между Достоевским и Салтыковым-Щедриным, связанные с публикацией «Подростка», причем Салтыков-Щедрин «читал» и «очень хвалит» роман; встречи эти продолжались примерно до конца 1877 г., когда Достоевский и Салтыков-Щедрин хоронят вместе Н.А. Некрасова, хотя эти встречи и это сближение было недолгим и непрочным: слишком велика была разница между православным монархизмом Достоевского и революционным демократизмом Салтыкова-Щедрина.
Есть воспоминания о похоронах Некрасова и у Николая Семеновича Лескова, который был потрясен разнузданным поведением «демократической молодежи». А вот интересные воспоминания В.В. Тимофеевой (О.Починковской) о выступлении Салтыкова-Щедрина вместе с Достоевским в зале Благородного собрания в Петербурге 9 марта 1879 г. на литературном вечере в пользу Общества нуждающихся литераторов и ученых.
«Салтыков начал вечер своей «Современной идиллией». Желчным, вяло-брюзгливым и монотонным голосом прочел он о том, как пришел Глумов и сказал, что «надо погодить», — и они начали пить водку, играть в карты, набивать папиросы и терять свою «образованность» в обществе нового друга их — околоточного, пока не обрастут когтями и шерстью <…>.
А после антракта первым вышел на эстраду Ф.М. Достоевский <…>. Он читал главу из «Братьев Карамазовых» — «Рассказ по секрету», но для многих, в том числе и меня, это было чем-то вроде откровения всех судеб <…>. И этот проникновенный, страстный голос до глубины потрясал нам сердца… Не я одна, весь зал был взволнован <…>. Все хлопали, все были взволнованы…».
Скажу, что после вебинара по «Селу Степанчиково» мы все были так же взволнованы, поскольку русская литература в чудной подаче И.А. не может не волновать. Она с сожалением добавила, что если бы не желчь всех, кто с нетерпением ждал революционного взрыва, считая, что их положение ничуть не изменится, а они так и будут поучать народ во главе шайки своих последователей, — не только творчество Достоевского было бы более радостным, но и литературное дарование автора «Левши» было бы несколько иным.
Мы еще раз посмотрели отрывок, где Фома Фомич допытывается у мальчика:
…господский ли, казенный ли, вольный, обязанный, экономический?
Напомню, что господскими назывались крестьяне, принадлежавшие помещику; казенными, или государственными, — принадлежавшие казне и царскому дому; экономическими — принадлежавшие монастырям. Обязанными или временно обязанными называли крестьян, не рассчитавшихся полностью с помещиком за полученный надел земли.
Ирина Анатольевна заметила, что «Село Степанчиково» так глубоко загвоздилось в душе материально обеспеченного очеркиста, что он и в «Пошехонской старине» дает пояснения по в русле допроса Фомы Фомича, хотя к самому сюжету его бытописаний это не имеет никакого отношения. И далее она процитировала:
Помню только больших кряковных уток, которыми, от времени до времени, чуть не задаром, оделял всю округу единственный в этой местности ружейный охотник, экономический крестьянин Лука.
И дальше разговор сам собой зашел у нас о том, отчего ж раньше из литературы очеркизм изживался, а бытописательство и вовсе считалось скандальным?
— Да как же в этом случае обойтись без скандала? — ответила И.А. — Ведь не знаешь, к кому такой очеркист в карман залезет и где это всплывет. Раньше у писателей были записные книжки. Только там и записывались такие «очерки с натуры», но без всякого «идейно-художественного подтекста». И такие детали затем тщательно дозировались, выверялись… а уж как и где всплывали… никто и понятия не имел заранее.
Например, в том же «Дядюшкином сне» прежний возлюбленный Зины травится так, как Достоевскому рассказал один ссыльный на каторге. Если бы Достоевский написал очерк с «идейно-нравственным содержанием», каким-нибудь «призывом» и «вопросами ко всему обществу», то стал бы такой же сволочью, как Салтыков-Щедрин. А он такую нежную провинциальную хронику написал, будто это он, а не Салтыков-Щедрин был там губернатором. Улавливаете разницу?
Очерк — всего лишь деталь, вызывающая доверие читателя к произведению. Она должна быть точной и достоверной, поэтому иногда «добывается» сложными путями. Но возникает в литературном произведении без назидания, а лишь точной характеристикой времени и места.
Нам, конечно, стало интересно, как же И.А. отзовется о «Пошехонской старине», которую возвеличивали в качестве мемуаров «писателя-социалиста». Сразу скажу, что это единственное произведение, которое прочла у Салтыкова-Щедрина без внутреннего напряжения, будто рассматривала старинные литографии.
«Пошехонская старина», появившаяся в 1887 — 1889 годах в журнале «Вестник Европы», — последнее произведение М. Е. Салтыкова-Щедрина. Им закончился творческий и жизненный путь писателя. В отличие от других его вещей оно посвящено не злободневной современности, а прошлому — жизни помещичьей семьи в усадьбе при крепостном праве. По своему материалу «Пошехонская старина» во многом восходит к воспоминаниям автора о своем детстве, прошедшем в родовом дворянском гнезде, в самый разгар крепостного права. Отсюда не только художественное, но и также историческое и биографическое значение этого монументального литературного памятника, хотя он не является ни автобиографией, ни мемуарами писателя.
На мое замечание, что это единственная вещь, доказывающая, что Михаил Евграфович — действительно крупный писатель, Ирина Анатольевна лишь грустно хмыкнула.
— «Кто мало видел — много плачет!» А что, «Бежин луг» и «Записки охотника» в пятом классе не читала? Вот по цитате про «экономического крестьянина» Луку видно, как этот Салтыков Тургеневу завидовал. Стоит лишь углубиться в чтение, там сразу видно, за кого он решил мемуары написать. Матушка описывается все же не его, а Тургенева. Мы про Тургенева слышали расхожее определение «тургеневская девушка». Потому мало знакомы с выражением «тургеневская матушка», дарю!
Матушка у него такой и была, как ее даже иллюстраторы к «Пошехонской старине» изображают — со страшным одутловатым лицом. Она очень много пережила, поэтому и срывалась на людях, оказавшись владелицей 5 тысяч душ. Так ведь себя ведут лишь крупные крепостники, да на рубеже ХVIII и ХIХ веков. Папа Тургенева на ней женился из-за ее богатства, рано умер. Вот мемуарист-очеркист отчего-то папеньку родного описать не смог.
А в литературе очень важно время, в которое ты такие детали вставляешь. Ну, и что Салтыков-Щедрин показал этими деталями крепостничества конца ХVIII века, поставленными им во вторую четверть ХIХ-го? Не только то, что окончательно разочаровался в народе, не совершившим для его очерков революцию. Так он напомнить решил то, что уж без его помощи было изжито к началу его «бичевания недостатков». Причем, окончательно изжито ведь после настоящей литературы Тургенева и Лескова.
Как же он завидовал и «традиционной» русской литературе! Он-то сразу понял, с чем вернулся Достоевский с каторги! Но то, что он выдал под конец жизни подобную «пошехонь», говорит ведь и том, как он завидовал и сдвинувшейся от внезапной вседозволенности матушке Тургенева. Он ведь не из сочувствия к народу решил переписать на свой лад тургеневские «Записки охотника»! Чего ему-то было бороться с крепостничеством, когда уж оно и к моменту его губернаторства было совершенно иным? В селе Степанчиково барин заговорщицки встречается с крепостными за конюшней, а в качестве издевательства описывается обучение крестьян астрономии и французскому.
Такой «Пошехонью» все же творческий путь начинают, а не заканчивают. Маститые критики должны были отметить вторичность произведения, его очерковость, неумение строить «сюжет-обвязку», придать общую повествовательную канву этим «бытописаниям». К чему написал-то, убогий? Где финал?
Но там же одновременно делается попытка уничтожить мыслями о «справедливости» — с трудом достигнутую договоренность о выкупе земли, из-за чего от крепостничества и так не могли избавиться на 20-30 лет раньше. Что-то сам-то он ничем жертвовать не собирался. А уж если это его «мемуары», так почему ни слова раньше о таком гадюшнике не обмолвился?
Между прочим, Тургенев «Записки охотника» начал печатать, когда еще Миша и Федя вместе за ручку к петрашевцам ходили, с 1846 года. Чего ж Мишенька тогда не вспомнил про свою маму с красной рожей мамы Тургенева? Потом Лесков крепостничество приканчивал… а этот все «глуповцев» клеймил.
Между прочим, по Достоевскому видно, о чем тогда писать следовало! Ведь он же пережил Достоевского значительно. Отца Достоевского не от хорошей жизни крепостные порешили, они потом с братьями где только не маялись. И Достоевский такого не пишет даже после каторги, став… как его там? «Религиозным монархистом»!
Обратим внимание, что современники стыдливо умалчивали, до чего ж их бичеватель под старость лет докатился. В критике «Пошехонской старины» намеренно упоминают мало известного Аксакова, «Детство» Льва Толстого и «Детство Темы» Гарина-Михайловского. А наиболее напрашивающегося даже по стилистике Тургенева, раз тот помер в городе Париже, можно и не вспоминать. Иначе ведь стыда не оберешься!
Но это именно Тургенев! А вот почему? Как говорят нынешние бичеватели — «это от зависти». В отношении Салтыкова-Щедрина — прямо в точку! Страшно он завидовал и Тургеневу, и Лескову, и Достоевскому. Это из каждой строчки так и прет. Уверена, терпеть их не мог, раз Тургенева достать не мог и не смел, а Лескову и Достоевскому многое отравил в жизни.
В чем с ним нельзя не согласиться, что само по себе страшно, когда человек — оказывается в безраздельной власти другого человека, на нравственное отношение которого положиться нельзя. И… в тот момент, когда нас всех нынче рассматривают «экономическими людьми», понимаешь это особенно остро.
Но самое отвратительное в этом «подвиге очеркиста» — то, что написано из сатанинской зависти к тем временам. Мне кажется, он и революции с Некрасовым ждал, чтоб всласть над людьми поглумиться… Наверстать упущенный расцвет крепостничества.
Уж не упустил возможности поглумиться над Достоевским после каторги, хотя не мог не почувствовать, что тот продолжает традицию… Пушкина! И раз деньги имел да в губерах побывал, у него эти демократы не осмелились попросить пояснить, почему «традиционность» — столь уж плоха.
Я ничего тогда не ответила И.А., хотя уже успела убедиться, что в таких вещах она не ошибается. Жаль стало «Пошехонской старины»… хотя вспомнила смутное ощущение, что мне это очень сильно что-то напоминает. Стало жаль такого успешного литератора Салтыкова-Щедрина, который вместо каторги побывал в губернаторах, имел деньги, бичевал крепостничество, спустя значительное время после его отмены, писал чужие мемуары и порицал Достоевского за «очерковость», «бытописательство» и «традиционность»…
Н.А. Соловьев-Несмелов в письме к И.З. Сурикову от 1 января 1880 г. передает следующий эпизод, характеризующий отношение Салтыкова-Щедрина к Достоевскому: «Нынче ел (т.е. обедал) в трактире с двумя пишущими, из которых один сообщает другому: «Вчера, говорит, был у М.Е. Щедрина — вот и великий талант; как человек, к прискорбию, разлагается, целый вечер все ругал то Тургенева, то Достоевского <…>. Достоевского поносил и блаженненьким и юродивым, и так, говорю, целый вечер… Тяжело было слушать»».
Недовольный тем, что демократические силы не возглавили Пушкинский праздник 1880 г. и сам проигнорировавший приглашение приехать на этот праздник, Салтыков-Щедрин писал 25 июня 1880 г. А.Н. Островскому о гениальной речи Достоевского: «Пушкинский праздник вызвал во мне некоторое недоумение. По-видимому, умный Тургенев и безумный Достоевский сумели похитить у Пушкина праздник в свою пользу».
Читать по теме:


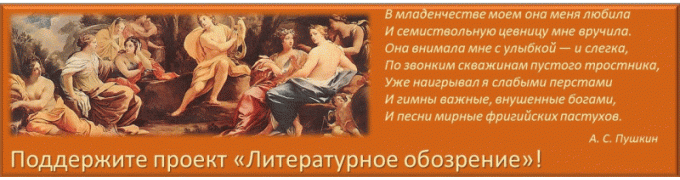
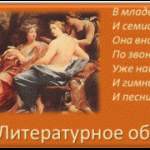

1 comment
Отличный материал! Как, оказывается, может быть все это интересно.
надо сказать, что Салтыков-Щедрин до сих пор пользуется популярностью в либеральной среде. Смотрите мол, прям сегодняшний день описан. Кругом «воруют», кругом «дураки и дороги» (один только я стою такой красивый в белом фраке).