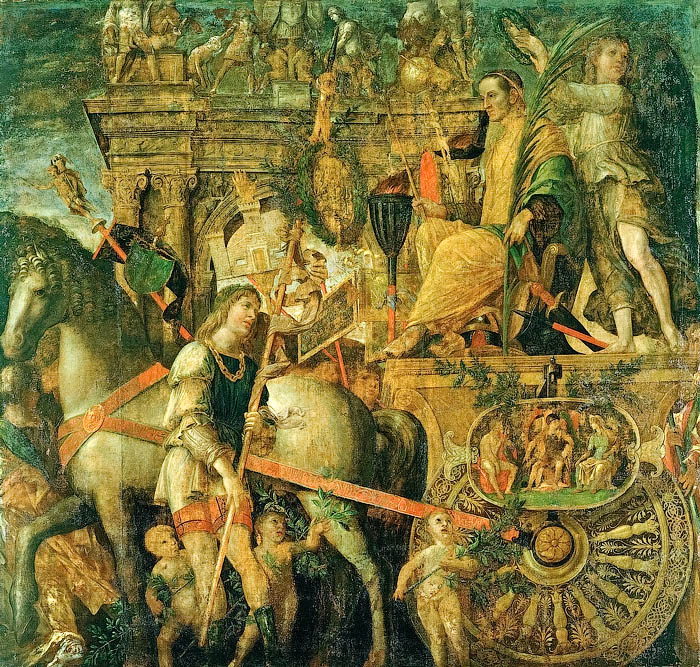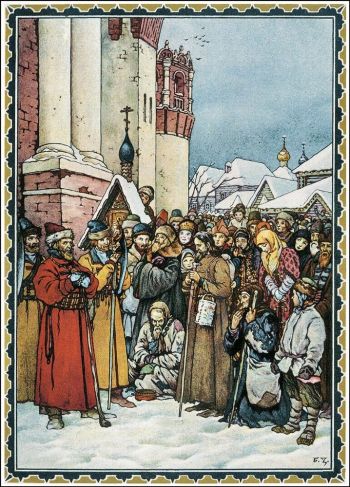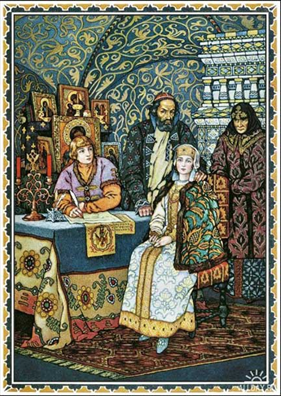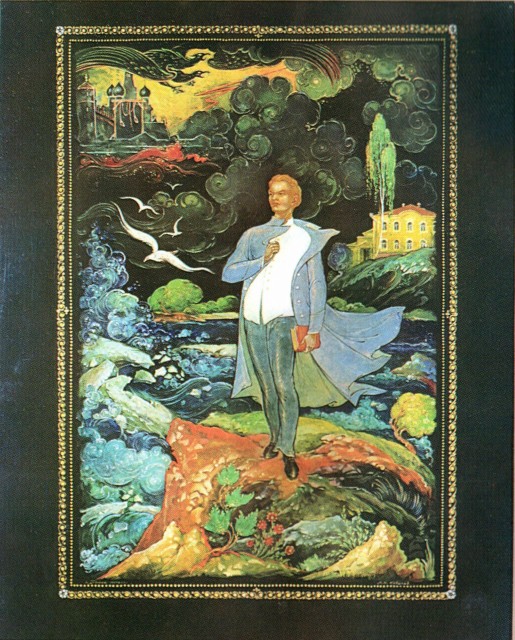ГЛАВА 3. ВЛАСТЬ И НРАВСТВЕННОСТЬ
Нельзя не смеяться над ослеплением тех, которые думают, что их эфемерная власть заставит замолчать голос грядущих веков.
Каждому, кто попадает на вершину могущества, в первую минуту глаза как бы застит туманом.
На редкость счастливое время, когда можно думать, что хочешь и говорить, что думаешь.
Честная смерть лучше позорной жизни.
Я считаю главнейшей обязанностью хроник сохранить память о проявленных добродетели и противопоставить бесчестным словам и делам — устрашение позором в потомстве.
Тацит Публий Корнелий
При обсуждении этой темы, власть обычно рассматривается как некий абстрактный и исключительный феномен, будто и человеческая власть – это некое высшее явление, изначально стоящее над обществом и личностью.
Сами того не замечая, мы часто употребляем слово «власть» в бытовой (разговорной) речи, но сочетания, смысловая и эмоциональная нагрузка — выявляют смену общественных интересов, которая чаще всего носит негативный характер. Еще недавно широко распространенные словосочетания «власть чувств» и «власть предрассудков» – вдруг заменяются «властью денег» и «судебной властью». А после превалирования на протяжении всего ХХ века атеистического мировоззрения– в языке неожиданно становится актуальным словосочетание «власть религии», что, как многие понимают, вызвано отнюдь не резким ростом набожности населения, а острым недоверием к государственной власти, общей политической нестабильностью.
Громкие заявления о «власти разума» могут означать и полное пренебрежение общечеловеческими ценностями, и крайнее мракобесие.
Впрочем, с феноменом власти все сталкиваются и по менее значительным поводам: у кого-то были властные родители, кто-то, влюбившись, почувствовал «неизъяснимую власть» над своей душой другого человека, превышающую все запреты и даже рамки незыблемых прежде табу принятых в обществе «нравов». Многие испытали и притягательную власть настоящего искусства.
О! Какая же нежная власть!
Пел когда-то вот так же Орфей…
Пусть дарует мне музыка страсть,
Хоть не знаю, что делать мне с ней.
[И.Дедюхова «Посвящение Глюку»]
Однако при всей разнородности и неоднозначности этих понятий можно выделить одно общее свойство: власть – когда воля и действия одних господствуют над волей и действиями других.
С развитием человеческого общества отношения в нем становятся все сложнее, — в качестве их регулятора развивается и власть, представляемая прежде харизматичным вождем или предводителем. Вначале она трансформируется вначале в совет старейшин, а с расширением количества общин – видоизменяется в прообраз иерархической системы, которую мы привыкли именовать «государство». Еще на ранних этапах развития государственности аппарат управления приобретает вид двухуровневой системы: верховная власть и власть на местах.
Таким образом, человеческое общество получает возможность согласованно решать насущные проблемы жизнеобеспечения, прежде всего, связанные с защитой территории, с созданием системы водоснабжения, транспортной и ирригационной инфраструктуры, аккумулируя финансовые и материальные средства.
При раскопках в одном из древнейших городов мира Уре, расположенном на полпути от Багдада до Персидского залива, были обнаружены панели из лазурита, инкрустированным перламутровыми пластинками, изображавшие иерархию общества во время войны и мира. По преданию, уроженцем Ура был библейский праотец Авраам. Этот город начал играть важную роль уже в III тысячелетии до н. э.
И для войны, и для мира — в этих штандартах устанавливаются два уровня власти, а на третьем, нижнем уровне, в качестве непосредственного носителя власти, ее опоры, — изображается народ.
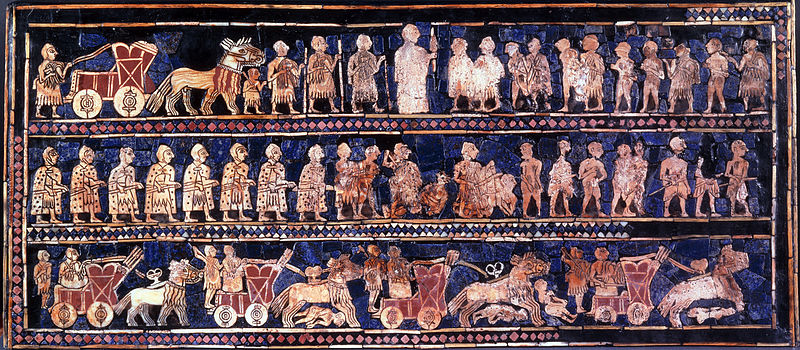 |
 |
| «Война» (слева) и «Мир» (справа) — шумерские штандарты из царских гробниц Ура, размером 21,59 х 49,53 см. Датируются примерно серединой III тысячелетия до н. э. Британский музей | |
Дошедшие до нас предметы атрибутики власти, служившие отличительным устойчивым знаком принадлежности к определенному сословию, – представляют собой во многом непревзойденные шедевры искусства, которое развивается вместе с упрочением государственности.
Господствующей идеологией является религиозное мировоззрение, поэтому к правящим классам принадлежит жреческое сословие. Государство выступает как посредник между народом и богами, а цари и фараоны – как представители богов на земле. Поэтому средствами архитектуры, прикладного и изобразительного искусств создается значительная дистанция между простым народом и правящей иерархией.
Литература, изначально существующая в форме изустных сказаний и преданий, – более демократична и доступна всем слоям общества. Канонические религиозные гимны, нравоучения правителей, тексты, восхваляющие победы и деяния военачальников, – не вызывают должного интереса даже у современников. Высокая идея власти, как необходимого условия выживания общества и волеизъявление богов, – на заре человечества порождает жанр эпической поэмы. В сущности, именно с него начинается развитие литературы – как самодостаточного искусства, способного одинаково захватывать духовный мир как простых людей, так и представителей элиты общества.
К наиболее древним эпическим сказаниям относится «Эпос о Гильгамеше», или поэма «О всё видавшем» (ša nagba imuru) , созданный в XXII веке до н. э. в Древнем Шумере. Он известен по спискам из клинописной библиотеки Ашшурбанапала, царя Ассирии, относящимся к VII веку до н. э. В эпосе повествуется о царе Урука — полубоге Гильгамеше, могучем воине. Никто не мог сравниться с ним в силе, несчетные беды принес он людям, «буйствуя плотью». В ответ на мольбы поданных унять царя Урука – боги создают «ему подобье» — простого человека Энкиду, «отщипнув глины, бросив на землю», чтобы он «отвагой с Гильгамешем сравнился», а народ занялся бы своими делами.
«Эпос о Гильгамеше» — это гимн о дружбе, которая возникает между царем и полубогом и Энкиду, который создан просто из щепотки глины. И если само повествование начинается с создания друга Гильгамешу, то о происхождении, детстве и юности самого героя эпоса не сообщается ничего.
За подвигами Гильгамеша и Энкиду следят боги, песни повествуют об их битвах и походах, в которых они сталкиваются с людьми и богами, выслушивают их истории с элементами космогонии того времени. Среди этих сказаний в «Эпосе о Гильгамеше» впервые упоминается о «Большом потопе».
Песни эпоса отражали философские взгляды того времени на окружающий мир, своеобразные этические представления, размышления о судьбе человека, его месте в мире. В отдельных шумерских песнях встречаются мотивы, известные нам по более поздним сказаниям – о поисках бессмертия.
Очевидно, шумерские песни создавались разными авторами, т.к. в них отсутствует общий связующий стержень. В более аккадских списках таким стержнем является цельный образ аккадского Гильгамеша, величие души которого проявлялось в отрицании внешнего величия, в братской дружбе с простым человеком, которая нравственно преображает и облагораживает главного героя эпоса. Поэтому можно предположить, что более древние шумерские разрозненные песни были творчески переработаны аккадским поэтом.
Практически прямые заимствования из «Эпоса о Гильгамеше» встречаются у Гомера – в его «Илиаде» и «Одиссее», даже в более поздних народных сказаниях. В сущности, любой человек, никогда не сталкивавшийся с этим эпосом, хорошо знаком с детства с его основными сюжетными линиями, не подозревая об их древнем источнике. На момент своего создания эпос включает в себя практически все существовавшие на тот период народные предания и не только шумерского происхождения.
Главным героем эпоса становится правитель с не подвергаемым сомнению божественным происхождением, а нравственность его образа выявляется в уходе от власти, в том, что он перестает давить на народ далекими от их реальной жизни целями и амбициями, присущими только небожителю. В названии он объявляется «все познавшим», а по сюжету он познает, прежде всего, тяготы материальной жизни, покинув пышные дворцовые покои.
Ненужность объяснения происхождения Гильгамеша, отсутствие каких-либо сведений о его жизни до того момента, как его подданные под бременем власти обратились к богам, — показывает, что в древних государствах не только безусловно соблюдалась значительная дистанция между представителями верховной власти, но и поддерживалась деспотически.
Сам же уход от власти главного героя показывает, как иссякает «буйство плоти» самых мощных династий, пришедших к власти, очевидно, по ритуалам, напоминавшим мистические выборы вождей у народов, долгое время сохранявших родоплеменные отношения, где как бы сами боги указывали на угодного им избранника.
Это говорит о том, что с усложнением аппарата государственного управления на смену старой элите из харизматичных вождей, приходит новая элита из более прагматичных правителей, не столь оторванных от требований реальной жизни общества.
В египетском обществе фикция божественного происхождения природы власти доказывается не только в религиозном мировоззрении, по которому фараон, как живое воплощение пантеона богов, — должен был получить достойное богов погребение, поскольку после смерти он должен был попасть на ладью вечности бога Ра. В официальной литературе того времени возникает способ версификации, перенятый затем в античности, которым доказывается, что новый фараон и в самом деле был рожден царицей от самого бога Pa, представшего в образе фараона.
 |
 |
| Канонические сюжеты Древнего царства в современных папирусах. Каир, Египет | |
«Неопровержимость» концепции «двойного отцовства» доказывается созданием колоссальных скульптурных изображений и храмовых комплексов, достойных «живых богов», то есть именно тем «буйством плоти», от которого пришли в отчаяние подданные Гильгамеша, поскольку все большинство дошедших до нас памятников искусства того времени не имело иной прагматической цели, кроме подтверждения божественного происхождения фараонов. В версии божественного происхождения заключалось не только главное доказательство права на престол, но и заранее оправдывались все решения фараонов, как неподсудные человеческому суждению, непостижимые для человеческого разума, как заранее нравственные во всех своих проявлениях.
Версия о теогамии27 возникает еще в эпоху Древнего царства. В наиболее древнем папирусе Весткар, содержащем предание о происхождении царей V династии, рассказывается о жреце бога Ра по имени Раусера и его жене Реджедет, которая родила трех мальчиков, но не от своего мужа, жреца, а от самого бога Ра (папирус Весткар 9, 9-10). Возмужав, они положили начало V династии.
От более поздних времен, точнее, от XVII династии дошли храмовые тексты и изображения, отражающие ту же концепцию. Причем, божественное происхождение выявляется и в зрелом возрасте даже у регентов, не имевших кровного родства с предыдущей династией, временно занимающих престол или узурпировавших власть правителей.
В храме царицы Хатшепсут28 в Дер-эль-Бахри сохранились изображения и надписи, рассказывающие о божественном происхождении женщины-фараона. Подлинными родителями царицы Хатшепсут были фараон Тутмос I и царица Яхмос, сохранившиеся изображения создают версию о том, что Хатшепсут официально объявила себя дочерью царицы Яхмос и бога Амона, почитавшегося тогда в качестве верховного божества Египта, отождествленного с богом Ра. Сопровождаемый богом Тотом, Амон направляется в покои царицы, приняв образ ее земного супруга, фараона Тутмоса I. Божественный аромат, исходящий от него, волнует царицу. Она воспламеняется страстью к богу и отдается ему. Рождается дитя божественного происхождения — Хатшепсут.
 |
 |
| Правая часть дворца регентствующей Хатшепсуд, оставшаяся благодаря ее пасынку Тутмосу III, который планировал превратить дворец в свою резиденцию | |
Однако ее пасынок (сын ее мужа и наложницы) уничтожает все орошаемые сады ее храма-дворца, делая дворцовое поселение матери нежилым. В противостоянии пасынка и мачехи, долгое время долгое время отстранявшей Тутмоса III от верховной власти, — возникает традиция отбивать нос или голову в барельефах или скульптурных группах, забивать имя предыдущих правителей в сопровождающих текстах, «доказывавших» божественное происхождение, на постаментах и на стенах.
Божественное происхождение «сильных мира сего», их родовое право повелевать – не только поддерживается и своеобразно развивается античной мифологией.
Уже в более позднюю римскую мифологию из древнегреческой переходит миф о рождении Эпафа, первого царя Египта и основателя Мемфиса. Юпитер превратил в белоснежную корову свою возлюбленную Ио, чтобы о его любовной связи не догадалась жена Юнона. Но разгневанная супруга узнает о его очередной измене. По ее приказу Ио в облике коровы охраняет великан Аргус с тысячью глаз на всем теле, поэтому Юпитер не может ей вернуть человеческий облик.
Юпитер просит Меркурия спасти Ио. Захватив с собой несколько маковых головок, Меркурий является к Аргусу и предлагает рассказать ему сказки, чтобы скоротать время. Меркурий — прославленный рассказчик, поэтому Аргус с радостью соглашается, но Меркурий выбирает самые длинные и неинтересные сказки, поэтому Аргус вскоре закрывает половину из своих тысячи глаз и крепко засыпает. Продолжая говорить все тем же монотонным голосом, Меркурий осторожно выкладывает мак на голову великана, и вскоре все его глаза закрываются, Аргус погружается в глубокий сон.
 Рене-Антуан Уасс (Houasse, Rene—Antoine, 1645-1710) «Меркурий и Аргус»
Рене-Антуан Уасс (Houasse, Rene—Antoine, 1645-1710) «Меркурий и Аргус»
Меркурий одним ударом отсекает голову Аргуса и уводит зачарованную корову прочь, но Юнона тут же насылает на бедное животное огромного овода, который укусами доводит Ио до безумия. Она бежит из одной страны в другую, перепрыгивая через реки, и, наконец, бросается в море, которое с тех пор называется Ионическим. Переплыв его, она очутилась в Египте, где Юпитер возвращает ей человеческий облик. Там она родила сына Эпафа, ставшего первым фараоном Египта.
Юнона горько оплакивает смерть своего верного Аргуса и, собрав его глаза, прикрепляет их на хвосты своих любимых птиц, павлинов, которые должны напоминать о ее преданном слуге.
Эта история содержит в себе не одну подобную аллегорию, объясняющую происхождение того иди иного природного явления, поскольку доказательство божественного происхождения египетских правителей уже не имеет практического значения в античной традиции. Ио здесь олицетворяет белоснежный диск Луны, блуждающий по небу, Аргус — всевидящие небеса с тысячью звездных глаз. Меркурий — дождь, чей монотонный шелест и низкие облака закрывают одну за другой звезды, убивая тем самым Аргуса, который никогда не закрывал всех своих глаз одновременно.
Сказания о героях в древнегреческой мифологии – это уже новый взгляд на власть, когда сказки о «тайне происхождения» и пышная атрибутика с аллегорической персонификацией «божественного родства» не срабатывают, нужные иные доказательства легитимности власти – именно личными свершениями, превосходящими возможности обычного человека. Как и в более поздней египетской традиции, в античных мифах подробно разбирается происхождение героя, а также сам его путь к власти, когда своими свершениями он не только подтверждает «смутные догадки» о его происхождении, но и свое право на престол.
Подобные «доказательства» в античной традиции подтверждаются пророчествами, которые предшествуют появлению героя. Например, о появлении на свет Персей29 (др.-греч. Περσεύς) по преданию сын Зевса и Данаи, царю Аргоса Акрисий, отцу Данаи, сообщает оракул, предсказывая, что ему суждено погибнуть от руки сына его дочери. Миф о Персее показывает неизбежность божественного промысла. Желая избежать рока, Акрисий заключает свою дочь Данаю в подземные покои из бронзы и камня, но полюбивший её громовержец Зевс проникает к ней в виде золотого дождя. Персей появляется на свет вопреки всем ухищрениям смертных. На своем путь к власти он становится победителем морского чудовища и горгоны Медузы, он спасает царевну Андромеду, поскольку лишь ему под силу помочь обычному человеку избежать божественной кары.
 |
 |
| Рембрандт Харменс ван Рейн (1606—1669) «Даная» (1636—1647) | Питер Пауль Рубенс (1577-1640) «Персей и Андромеда» |
По нравственным соображениям он не занимает престол своего деда, который погибает от диска, нечаянно брошенного Персеем в состязаниях, уступая его своему другу.
В мифе о Геракле30 мы видим уже более сложное отношение не только к проблеме нравственности власти, но и новый уровень морального общественного отношения в толковании божественного происхождения героя. Впервые в мифе возникают нескрываемые сомнения, насколько уместны сверхчеловеческие способности в обыденной жизни. Геракл постоянно становится причиной несчастий из-за своей божественной силы, выходящей далеко за рамки обычных человеческих способностей, неуместной в повседневной реальности.
Уже традиционно накануне появления героя прорицатель Тиресий рассказывает Амфитриону, мужу царицы Алкмены, матери Геракла, о том, что она изменила ему, сама того не понимая, поскольку громовержец Зевс принял его облик, остановив солнце, чтобы их ночь длилась трое суток.
Даже совершив 12 подвигов, став бессмертным, Геракл так и не достигает земной власти. Царем становится не сын Зевса, чьи подвиги увековечены в преданиях и произведениях искусства, а заурядный, слабый здоровьем, мстительный и трусливый Еврисфей. Свои подвиги он совершает, чтобы избавиться от рабской зависимости от власти своего кузена Еврисфея, которому коварная Гера помогла родиться раньше, задержав роды Алкмены, предварительно взяв обещание с Зевса, что царем будет тот, кто родится в назначенную ночь.
Несложно заметить, что жребий Еврисфея так же предопределен свыше, — он царствует по воле Геры, чей выбор определяется желанием унизить Зевса.
Миф о Геракле выявляет глубокое философское отношение к природе власти, — в нем не отрицается необходимость власти, поскольку не отрицается ее божественное происхождение. Но речь идет не о простом праве родства, не о том, что правителем может быть лишь человек, обладающий некими выдающимися способностями, а о справедливости.
На протяжении всей истории человечества актуален вопрос о том, насколько справедливо, когда человек заурядный – управляет людьми, многие из которых обладают куда более выдающими способностями. Как такой человек должен ограничить собственную власть, чтобы не нарушить ее нравственного смысла?
Наряду с жизненно важными вопросами, древнее общество постепенно решает вопросы образования, культуры, социальной помощи. Поэтому миф о Геракле не теряет актуальности, поскольку с ростом потенциала всего общества, намного превышающего природные задатки одного человека, — постоянно возникает нравственный вопрос о том, насколько справедлива власть обычного человека, вознесшегося на вершину власти по воле богов?..
Сын бога Геракл впервые не приходит к верховному владычеству на земле, поскольку Зевс не может нарушить данного им слова о том, что царем будет тот, кто первым родится в назначенную ночь. Но царствование Еврисфея является гарантией того, что Геракл, совершая подвиги на благо всего общества, избавляя людей от чудовищ, с которыми не может справиться ни один смертный, — никого не обременяет «буйством плоти», как некогда их обременяла власть полубога Гильгамеша. А его явная опасность для обычных людей, заключенная в его божественной силе, — уравновешивается царствованием вполне заурядного человека, хотя и принадлежащего к роду персеидов, т.е. тоже являющимся потомком легендарного Персея.
Отрицательные качества Еврисфея, проявляющиеся в период его правления, — трактуются унизительными для богов, но вовсе не служат основанием для попыток его свержения, хотя подвиги Геракла, совершенные по приказу Еврисфея, делают героя куда более достойным претендентом на престол. Но то, что Геракл не пытается свергнуть Еврисфея, выражает одно существенное требование к преемственности власти: большинство людей вовсе не желает социальных потрясений, поэтому считает нравственнее придерживаться установленного порядка престолонаследия.
Из всего пантеона древнегреческих героев никто не пользовался таким почитанием в Древнем Риме, как Геракл или Геркулес, как он именуется в поздней античной традиции.
При изустном пересказе старинного предания эстетическая триада художественного образа непременно обогащается жизненным опытом рассказчиков, включает их нравственную оценку современной власти.
Возникает прием аллегории31, т.е. условного изображения абстрактных идей (понятий) посредством конкретного художественного образа или диалога со слушателями. Эстетическая триада замыкается, если сам повод рассказа о «делах давно минувших дней» является актуальным для слушателей, эстетическая триада изусной мифологии принимает вид: «абстрактный мифический образ – пересказ мифа в качестве нравственного примера – нравственный вывод слушателей по собственному отношению к власти».
 Джованни Беллини (1432-1516) «Аллегория умеренности»
Джованни Беллини (1432-1516) «Аллегория умеренности»
Миф о Геркулесе – это не просто «сказка для развлечения», поскольку здесь поднимаются многоплановые проблемы, с которыми сталкивается и каждый человек в отдельности, и общество в целом. Талант и дарование, которыми каждый человек снабжен свыше, далеко не всегда воспринимаются с должным уважением, поскольку все новое, что обретает человечество на пути своего развития – всегда встречает сопротивление старого. Но как далеко можно зайти, принимая все новое без должной нравственной оценки?
Нравственный потенциал мифа о Геркулесе, образ которого иногда трактуется примером грубой силы, природной стихии, а сам герой подается несведущим в искусствах и науках, — тем не менее, позволил римскому обществу создать наиболее жизнеспособную и прагматичную систему государственного управления.
Римская община искони слагалась из трех основных органов:
- народа как суверенного распорядителя судьбами государства;
- магистратов как носителей народной воли;
- сената, как носителя народного разума, хранителя государственных традиций, органа, из которого исходит и куда возвращается верховное магистратское imperium.
Вся история римской конституции — это история постепенного развития этих трех основных органов. Абсолютное владычество магистратуры, сначала в лице местного царя, затем в лице консулов, постепенно смягчается и переходит в олигархию, затем в умеренную аристократию, представителем которой является сенат.
Сенат32 (лат. senatus, от senex — старик, совет старейшин) возник из совета старейшин патрицианских родов в конце царской эпохи (около VI века до н. э.). С установлением республики, сенат, наряду с магистратами и народными собраниями (комициями33), стал существенным элементом общественной жизни. В состав сената пожизненно входили бывшие магистраты — таким образом, здесь концентрировались политические силы и государственный опыт Рима.
В существовании римского сената выделяется несколько эпох, в которых наблюдается разная степень влияния сената на государственное управление:
- Эпоха царей, когда сенат находится в полной зависимости от решений самодержца;
- Республиканский период, когда сенат пополняет не царь, а два срочных консула, но в сенате появляются плебеи (conscripti), к концу периода сенат дистанцируется от решений консулов, делится две палаты – на любое решение может быть наложено вето патрицитанской части сената;
- Имперское время, вначале которого гарантом прав народа выступает приципат, т.е. «первый из сенаторов», император, к концу периода народ полностью утрачивает все элементы влияния на принятие государственных решений, когда и выбор магистратов перешел к сенату, полностью контролируемому императором.
 Члены сената делились на ранги в соответствии с ранее занимаемыми должностями. Многоярусный амфитеатр сената, который мы видим на его исторических изображениях, позволял учитывать ранг и заслуги сенатора, его происхождение. Во время дискуссий сенаторы получали слово в соответствии с этими рангами, близость скамьи к трибуне учитывала удобство прохода. Во главе сената стоял наиболее заслуженный, первый из сенаторов – принцепс34 (princeps senatus).
Члены сената делились на ранги в соответствии с ранее занимаемыми должностями. Многоярусный амфитеатр сената, который мы видим на его исторических изображениях, позволял учитывать ранг и заслуги сенатора, его происхождение. Во время дискуссий сенаторы получали слово в соответствии с этими рангами, близость скамьи к трибуне учитывала удобство прохода. Во главе сената стоял наиболее заслуженный, первый из сенаторов – принцепс34 (princeps senatus).
Первоначально в сенат входили только члены исконно римских фамилий, но с I века до н. э. это право получили и италики, а во времена Империи — даже знатные провинциалы.
В период Республики в ходе сословной борьбы плебеев с патрициями (V—III вв. до н. э.) власть сената была несколько ограничена в пользу комиций (народных собраний).
В III—I вв. до н. э. сенат предварительно рассматривал законопроекты, предлагавшиеся для голосования в комициях, ему принадлежало высшее руководство военными делами, внешней политикой, финансами и государственным имуществом, надзор за религиозными культами, право объявлять чрезвычайное положение и т. д. Сенат утверждал законы и результаты выборов, контролировал деятельность магистратов. Таким образом, сенат фактически осуществлял руководство государством.
Постановления сената (s. c., senatus consulta) имели силу закона, так же как и постановления народного собрания и собрания плебеев — плебисцита.
Система управления государством изменялась с учетом опыта других государств. Особо ревностно отслеживалась система управления давнего соперника Рима — Карфагена. Историк Полибий35, излагавший точку зрения наиболее влиятельных римлян, писал, что решения в Карфагене принимались народом (плебсом), а в Риме – «лучшими людьми», то есть Сенатом.
Однако, по мнению более серьезных греческих историков, Карфагеном на самом деле правила Олигархия24. В Греции считалось, что Карфаген продолжает путь, выработанный в Спарте с «ротационной» олигархией эфоров36, в то время как большинство греческих городов-государств выбирало демократию37.
Еще Аристотель38 опровергал распространённое в античности представление о необходимости имущественного ценза при избрании достойнейших (как это происходило в Карфагене) — из-за фактической «покупки власти»:
Всего же более отклоняется от аристократического строя в сторону олигархии карфагенское государственное устройство в силу вот какого убеждения, разделяемого большинством: они считают, что должностные лица должны избираться не только по признаку благородного происхождения, но и по признаку богатства, потому что необеспеченному человеку невозможно управлять хорошо и иметь для этого достаточно досуга.
Но если избрание должностных лиц по признаку богатства свойственно олигархии, а по признаку добродетели — аристократии, то мы в силу этого могли бы рассматривать как третий тот вид государственного строя, в духе которого у карфагенян организованы государственные порядки, — ведь они избирают должностных лиц, и притом главнейших — царей и полководцев, принимая во внимание именно эти два условия. Но в таком отклонении от аристократического строя следует усматривать ошибку законодателя.
… Хотя должно считаться и с тем, что богатство способствует досугу, однако плохо, когда высшие из должностей, именно царское достоинство и стратегия, могут покупаться за деньги.
Вполне естественно, что покупающие власть за деньги привыкают извлекать из неё прибыль, раз, получая должность, они поиздержатся. Невероятно, чтобы человек бедный и порядочный пожелал извлекать выгоду, а человек похуже, поиздержавшись, не пожелал бы этого.
[Аристотель. «Политика»]
В период Империи власть сената всё более ограничивалась, сосредоточиваясь в руках императора, хотя формально сенат продолжал считаться одним из высших государственных учреждений. На самом деле, сенат превратился в собрание представителей знатных семейств, не имеющее большого политического влияния. Постановления сената сохранили силу законов, но принимались обычно по инициативе императора. Начиная с Октавиана Августа, фактический император Рима носил титул «принцепс» — то есть «первый из сенаторов».
Попытки демократизировать государственный строй, разбить главенство сената дают только отрицательные результаты, восстановляя магистратский произвол в лице принципата – власти избранного сенатора.
Некоторое время сенат, больше в силу традиции, чем в силу фактического могущества, продолжает в качестве фактически подчиненного органа делить власть с магистратурой, пока самое понятие магистратуры (местного самоуправления) не исчезает, вытесненное новым принципом восточной абсолютной монархии.
Магистратура39 (от лат. magistratus — сановник, начальник) — общее название государственных должностей в Древнем Риме. Возникновение магистратур относится к периоду установления Римской республики (конец VI века до н. э.). Магистратуры исполнялись безвозмездно, были краткосрочными (как правило, 1 год) и коллегиальными, т. е. исполнялись двумя людьми (за исключением должности диктатора). Человек, замещавший магистратуру, назывался магистратом.
Первая высшая магистратура была создана примерно в 509 до н. э., когда после отмены царской власти во главе Римской республики встал praetor maximus — должность, впоследствии превратившаяся в консулат. Первоначально все магистратуры, кроме народных трибунов, замещались патрициями, но к началу III века до н. э. стали доступны и плебеям.
Все магистраты имели право издавать указы по кругу своих обязанностей и налагать штрафы; высшие магистраты, исключая цензоров, обладали верховной властью (imperium). Их внешним отличием была свита из ликторов40 с фасциями41. Законом Виллия (180 до н. э.) устанавливался порядок и последовательность прохождения магистратур (cursus honorum). В эпоху Империи выборные должности утратили политическое значение, но сохранились в качестве предпосылки для занятия новых, влиятельных постов.
Упадок и падение Рима по бытующему мнению принято объяснять общим падением нравов высшей иерархии, хотя ослабление государственности исторически пришлось на тот период, когда власть представлялась совсем иными людьми, чем Нерон или Калигула, которые вошли в историю как образец порочности.
Напротив, правление этих глубоко безнравственных людей не вызвало особых изменений в государственном устройстве и внешнеполитическом положении Рима. Причем, нелицеприятная оценка современников их поступков и деяний – надолго пережила их земной триумф. Само же падение Рима пришлось на управление императоров, придерживавшихся христианской аскезы и благочестия.
Поэтому версия о зависимости личной безнравственности представителей правящей верхушки – и стабильности государственной системы может быть полезна лишь с целью общественного морализаторства. Но даже при попытках объяснения падения Рима, а затем и Константинополя, — приходится сдвигать события на два-три века, при том, что средняя продолжительность жизни во времена расцвета Древнего Рима не превышала 35 лет.
Эта версия является не только искусственной, но и неотъемлемым элементом политических идеологий, которые навязывают обществу очередных авантюристов – как изначально более нравственных людей, чем представители свергнутых ими режимов.
Однако нравственный человек не станет разрушать жизнь сограждан, из одного предположения, будто он лично – более нравственный, чем представитель высшей иерархии. Но, заметим, это вовсе не означает, будто некий отдельный человек обладает эталоном нравственности, является самым нравственным представителем современного общества.
На макроуровне государственного управления человек противопоставляет свои личные нравственные качества – совокупной нравственности всего общества. При этом сопоставление соответствия чьих-то личных усилий – интересам всего государства, а личных качеств правителя – общественным нравам своего времени, — может быть выполнено лишь на художественных образах исключительно в сфере искусства.
Из этого ложного посыла вытекает и множество вполне современных ложных оценок действительной ценности предметов искусства, прежде всего в литературе, где в качестве «главной идеи» предлагается огульно «судить все современное общество».
Возвращаясь к статье Аполлона Григорьева «Искусство и нравственность», уже упомянутой в гл. 1, можно видеть, что подобная «обличительная литература», выдвигающая в качестве художественных образов «образец нравственности», клеймящая современное общество как косное, невежественное, порочное, — на самом деле является отражением официальной литературы, стремившейся закрепить образ правящей элиты в качестве аналогичного «эталона нравственности».
В результате все претензии «обличительной» литературы — обращены к обществу, которое «рабски терпит» безнравственных представителей власти и не способно «оценить по достоинству» неких никому неизвестных персон, обладающих от рождения удивительными в таких условиях нравственными качествами. А с точки зрения официальной литературы, общество повинно в том, что проявляет непонимание реформаторской деятельности представителей власти на благо государства, слишком негативно воспринимает связанные с этими реформами тяготы. Официальная литература создается из убеждения, что общество не проявляет должной лояльности к представителям высшей иерархии, которые не только выше положением любого представителя общества, но и более информированы, следуют «высшей цели», которую обычный человек зачастую не в состоянии осознать и способен судить о ее целесообразности лишь из примитивных бытовых представлений.
Однако отметим, что многочисленные нравоучения царей и фараонов не только не оказали существенного влияния на историю, но и не представляют сегодня особой культурной ценности, несмотря на свою древность. В то же время даже мотивы эклектичного сюжета «Эпоса о Гильгамеше» знакомы каждому по народным сказкам о «молодильных яблоках» (яблоках Гесперид), о победе над чудовищами, по сказаниям о Всемирном потопе. Настоящее искусство, в котором отображается и нравственная оценка представителям власти – переживает века. Положительный нравственный акцент в нем ставится на герое, который с честью выносит все тяготы правления безнравственного человека, не соблазняясь на безнравственные поступки, не становясь таким же, сохраняя свое человеческое достоинство, а главное – не посягая на незыблемость государственной власти.
В качестве более научной версии падения Рима, далекой от нравственных оценок личности представителя высшей иерархии управления, приводятся внутренние противоречия, складывающиеся в римском обществе: «Древний Рим был разрушен борьбой рабов и колонов за свои права».
Правление рабов было отмечено шокирующей жестокостью к побежденным и куда большей безнравственностью в управлении, чем это было принято до них. Положение «новых патрициев» усугубилялось отсутствием опыта управления, неумением предвидеть последствий своих поступков и решений, полной неготовностью к ответственности, налагавшейся властью.
Однако мы видим, что восстание Спартака, вызвавшее потрясение всего римского общества – не ввергнуло страну в хаос, все государственные институты были восстановлены в самый краткий период, а внешние опасности – отражены.
Ретроспектива развития структуры римского сената показывает, что последним этапом его существования стало Имперское время. Начало этого периода принято относить к реформам Цезаря43, убийство которого в сенате вызвало Гражданскую войну, после которой верховная власть перешла к усыновленному Цезарем Октавиану Августу. Интересно, что с Гая Юлия Цезаря большинство принцепсов (императоров) гласно готовило себе приемников – не по праву рождения, а также путем гласного усыновления претендента на высшую государственную должность.
Единоличность никогда не казалась особо необходимой Юлию Цезарю, он не рвался к безраздельной власти, не рассматривал ее политической необходимостью. Он успешно работал вначале в составе аграрная комиссия, затем в триумвирате, а после цепко держался за дуумвират с Помпеем. Т.е. он не был против коллегиальности или деления власти. Со смертью Помпея Цезарь фактически остался единым руководителем государства; мощь сената была сломлена и власть сосредоточена в одних руках, как некогда в руках Суллы. Для проведения всех тех планов, которые задумал Цезарь, власть его должна была сильной и полной, но при этом он вначале не планировал, по крайней мере, формально выходить из рамок конституции. Готовый полностью воспринимать всю нечеловеческую ответственность личной власти, он рассматривает и использует себя в качестве некого управляющего центра, способного более динамично реагировать на любые изменения ситуации, оперативно принимать управляющие решения. Единственной магистратурой этого рода была диктатура. Неудобство её по сравнению с формой, придуманной Помпеем — соединение единоличного консульства с проконсульством, — состояло в том, что она была слишком неопределённа и, давая в руки все вообще, не давала ничего в частности. Диктатура, как основа оперативных решений с рядом специальных полномочий — это те рамки, в которые Ю. Цезарь поставил свою власть. В результате возникает государство, масштабы и достижения которого до сих поражают воображение.
Неслучайно эпическая поэма Овидия «Метаморфозы» заканчивается предсказанием о появлении Юлии Цезаря с перечислением его неоспоримых свершениях, которые будут высоко оцениваться и через века. Но особый акцент ставится на то, что его государственная деятельность поднимает нравственность общества: «Нравы примером своим упорядочит; взор устремляя в будущий век, времена грядущих внуков далеких…»
С точки зрения настоящего искусства (как и официального), нравственность общества заключается в справедливой (а значит, нравственной) оценке деятельности государственного деятеля, критерием которой является процветание государства в его длительной ретроспективе.
Весь процесс метаморфоз, охваченных Овидием со времен сотворения мира, заканчивается превращением Гая Юлия Цезаря – в комету, в тот момент, когда его душу «что из плоти исторглась убитой» похищает «благая Венера», которая «в римский явилась сенат и, незрима никем». Участие в судьбе Цезаря Венеры объясняется тем, что род Юлиев вел свою родословную от Юла, сына троянского старейшины Энея, который, согласно мифологии, был сыном богини Венеры. Находясь на вершине своей славы, в 45 году до н. э. Цезарь заложил храм Венеры Прародительницы в Риме, увековечив «смутные догадки» о своем родстве с богиней.
«Метаморфозы» Овидия надолго пережили их создателя, до сих пор вызывая подлинный интерес любителей литературы. В финале поэмы в комету превращается человек, чья реформаторская деятельность вызвала Гражданскую войну, т.е. получила, казалось бы, неоднозначную оценку современников, многие из которых восприняли Цезаря как узурпатора власти. Однако отметим, что Цезарь при снижении значения сената – расширял полномочия магистратур, то есть местного самоуправления, причем, способствуя целостности огромной империи, повышая значение народных собраний (комиций), использовавшихся его предшественниками исключительно в качестве системы информационного оповещения. Поэтому нельзя сказать, что он полностью замкнул весь властный ресурс на себе. Напротив, в момент принятия диктаторских полномочий, снизив роль сената, — он включил огромные народные массы в процессы жизнедеятельности государства.
Аппарат государственного управления не должен быть архаичным, он должен видоизменяться в соответствии с насущными требованиями времени. В дальнейшем преемники Цезаря уже не справляются с бременем власти, но все меньше оставляют полномочий народу, все меньше придавая значение воле народа, интересы которого изначально далеки от следования амбициозным целям нового «любимца богов», чье увековечивание в истории никак не связано с важнейшими государственными задачами.
Последние строки «Метаморфоз» описывают превращение этого масштабного труда Овидия – в памятник поэту, как бы давая понять, насколько грандиозные задачи могут оставить имя человека в веках за счет его личного вклада, а не за счет государственной казны.
Будет с небесных твердынь взирать божественный Юлий!»
Так он это сказал, не медля благая Венера
В римский явилась сенат и, незрима никем, похищает
Цезаря душу. Не дав ей в воздушном распасться пространстве,
В небо уносит и там помещает средь вечных созвездий.
И, уносясь, она чует: душа превращается в бога,
Рдеть начала; и его выпускает Венера; взлетел он
Выше луны и, в выси, волосами лучась огневыми,
Блещет звездой; и, смотря на благие деяния сына,
Большим его признает, и, что им побежден, веселится.
И хоть деянья свои не велит он превыше отцовских
Ставить, но слава вольна, никаким не подвластна законам,
Предпочитает его и в этом ему не послушна:
Так уступает Атрей Агамемнону в чести великой,
Так и Эгея Тезей, и Пелея Ахилл побеждает;
И наконец, — чтобы взять подходящий пример для сравненья, —
Так уступает Сатурн Юпитеру. Правит Юпитер
Небом эфирным; ему троевидное царство покорно,
Август владеет землей: и отцы и правители оба.
Боги, вас ныне молю, Энеевы спутники, коим
Меч уступил и огонь; Индигет, Квирин, основатель
Града, и ты, о Градив, необорного родший Квирина!
Ты, меж пенатов его освященная Цезарем Веста!
С Вестою Цезаря ты, о Феб, очага покровитель!
Ты, о Юпитер, чей дом на высокой твердыне Тарпеи!
Все остальные, кого подобает призвать песнопевцу!
День пусть поздно придет, чтоб нас уж не стало, в который
Эта святая глава ей покорную землю покинет
И отойдет в небеса моленьям внимать издалека.
[Овидий «Метаморфозы»]
Овидий упоминает в финале и Августа, который «владеет землей», но, как и Цезарь, является «и отцом и правителем». Душа Цезаря лишь после смерти превращается в бога, не при жизни, когда безнравственно требоваться себе почестей, которым нравственно оказывать лишь богам, сотворившим этот мир.
Последние императоры, обособляя свою личную власть не только от народа, но и от аристократии, рассматривали Рим именно с этих позиций – как свою безраздельную собственность, уже не являясь «отцами нации», насаждая свое главенство исключительно грубой силой. Они демонстрируют полное непонимание нравственного смысла метаморфоз, описанных Овидием. Человек, получающий столь безграничную власть над другими, может сравняться с богами, если использует свою власть во благо Отчизны, а его имя останется в веках. Но как бы не навязывали свою «божественность» другие, не осознавая, что их величие мнимое, без занимаемого ими места в высшей иерархии – они останутся лишь Эврисфеем Геракла, совершавшего подвиги.
Много ли мы знаем о преемнике Цезаря — Августе, при жизни носившем имя «Божественный»? Но стоит произнести имя Цезаря, возникает образ государственной мощи, эпического героя даже у тех, кто никогда специально не знакомился с его поступками и деяниями. Мощь государственной власти может из обычного человека создать эпического героя, если он сможет организовать силу многих людей на масштабные подвиги и свершения, стараясь устроить жизнь сограждан более цивилизованным и справедливым образом.
Любой гражданин всякого государства имеет свои личные представления о более справедливом его устройстве, о его развитии и процветании. Метаморфозы с Цезарем произошли еще и потому, что он учел и помог воплотиться в жизнь наиболее значимым идеям своих современников, объединив их силы. Это были не «подвиги ради подвига», все его действия приносили ощутимую пользу согражданам и служили созданию действительно великого государства.
Людям всегда противостоит стихия, образно представляемая в качестве гнева богов, непреодолимой силы обстоятельств. Люди объединяются в государство, чтобы попытаться если не исключить, то снизить сокрушительные последствия очередного натиска сил природы, не всегда благосклонной к человеку.
Но и сама государственная власть может превратиться во враждебную стихию, раздавить уничтожить жизнь обычного человека, если подчинена разрушительным эмоциям заурядного правителя, его ущербной тяге к «возвеличиванию», его подозрительности в отношении сограждан и страхам перед жизнью.
Цезарь у Овидия становится равным богу, пройдя при жизни метаморфозы отказа от каких-то своих личных стремлений и желаний, полностью подчиняя свою личность – служению на благо государства. И при этом он использует не только грубую физическую силу, как нам примитивно представляют историю Древнего Рима, как государства, созданного «трудом рабов». накопленный интеллектуальный потенциал общества, аккумулирует на государственном уровне но и все идеи, мечты о более справедливом государственном устройстве лучшей части современников. Попросту говоря, он, в ущерб осуществлению собственных идей, мог признать большую актуальность и необходимость решения совсем других задач и проблем.
Как ни странно, но если досконально изучить жизнь Цезаря, можно неминуемо столкнуться с парадоксом: это был наиболее нереализованный в личном плане государственный деятель, постоянно отодвигавший собственные идеи – в пользу осуществления чужих проектов, с безошибочной точностью выделяя в них государственную пользу.
В сущности, падение Древнего Рима произошло потому, что большинство граждан не встало на его защиту, будучи полностью отстраненными от влияния на процесс жизнедеятельности государства, никак не связывая свою жизнь, свои лучшие мечты и стремления — с его существованием. Заметить это несложно, поэтому в духе «обличительной литературы» общественная апатия объясняется национальной рознью и социальной нестабильностью.
Однако Рим до сих пор является примером толерантности, прежде всего, религиозной. Каждый раб имел возможность выполнить религиозные отправления, согласно своим верованиям, в Риме устанавливались кумирни всех божеств захваченных народов. Таким образом, любой раб мог совершать религиозные отправления именно так, как совершал бы их у себя на родине согласно верованиям предков. Исключение составили лишь некоторые мистические культы, связанные с колдовством и человеческими жертвоприношениями. Процесс мифологизации включал и дополнения, в которых мифы других народов, влившихся в состав Римской империи, проводились соответствие мифам о героях и богах римского пантеона. Как, например, «поющая статуя» Аменхотепа III была версифицирована в качестве статуи мифического царя Мемнона.
Преследованиям подверглось и новое христианское учение, которое претендовало на единую веру, единственно истинное религиозное мировоззрение, к чему при такой изначальной веротерпимости не были готовы ни римские власти, ни все римское общество.
Во многом примитивное, огульное восприятие римского общества, навязанное вначале в ходе религиозной борьбы христианства с языческим инакомыслием, а затем в разрезе «классовой теории» К. Маркса – не позволяет объективно воспринять урок, заложенный в истории этого важнейшего периода человеческой цивилизации. К примеру, в наше восприятие никак не вписываются две недели так называемых сатурналий44, посвященных победе Юпитера над Сатурном.
Праздник приходился на последнюю половину декабря, что связано с небесных светил, поскольку вся языческая мифология увязывается с описанием видимого небосклона. Однако и сегодня принято объяснять время проведения сатурналий с окончанием земледельческих работ, которые на самом деле в этих природных условиях заканчивались на три месяца раньше.
Сатурналии – имели намного более глубокий философский смысл, нежели это можно объяснить обычным окончанием сельскохозяйственных работ. В них праздновался переход от варварской дикости, от авторитарной диктатуры племенного правления – к цивилизованному управлению, основанному на власти разума, а не грубой силы.
Во время сатурналий все общественные дела приостанавливались, что никак не связано с сельскохозяйственными работами. На них же приходилось и время школьных каникул. Но в этот период не работали суды, а преступники могли получить амнистию, но в период сатурналий их никто не имел права наказывать.
Рабы получали в эти дни особые льготы: они не только освобождались от обычного труда, но имели право носить pilleus (символ освобождения), их приглашали за общий стол в одежде господ, а хозяева им прислуживали. На эти две недели в году рабы и хозяева менялись местами, что не укладывается в наши расхожие представления о «рабовладельческом строе».
Хотя праздновался переход от некогда великого Сатурна – к прежде затравленному, вынужденному скрываться Юпитеру, праздник назывался «сатурналии», чем выражалось уважение к преемственности власти, к прошлому, — с надеждой на позитивные изменения. Важность этого празднества для всего общества подчеркивалась жертвоприношением перед храмом Сатурна на форуме. Затем устраивалось религиозное пиршество, в котором принимали участие сенаторы и всадники, одетые в особые костюмы. В семьях сатурналии также начинались с жертвоприношений (закалывали свинью) и проходили в веселье, причём друзья и родственники обменивались подарками. Улицы были запружены народными толпами; всюду раздавались восклицания Jo Saturnalia (это называлось clamare Saturnalia).
В гл. 1 упоминалось, что свою карьеру Цицерон, представитель привилегированного сословия всадников, начал с борьбы с бывшим рабом, вольноотпущенником, что также свидетельствует о куда более сложных общественных отношениях, чем обычное деление на «классы». Этот исторический пример свидетельствует не об «освободительной борьбе рабов за свои права», а о сложности, с которой общество при помощи красноречия Цицерона пытается восстановить общественную нравственность, попранную вольноотпущенником.
Реальные социальные и имущественные отношения в Риме были намного более сложными: иногда раб был намного богаче своего разорившегося господина. Пекулий45 раба, в принципе считавшийся безусловной собственностью господина, открывал, тем не менее, перед рабом ряд возможностей накопления денег. В Имперское время появляются и законы, защищающие пекулий от чрезмерных претензий хозяина. Раб теперь мог приобретать своих рабов; в этом случае он назывался ординарием, а его рабы — викариями, и собственность господина, которому принадлежал раб-ординарий, на викариев последнего не была ни прямой, ни безусловной. Признавая собственность рабов, законы вначале признают неделимость их семей, оговаривая возможные случаи сохранения рабом приданого сожительницы, недопустимость продажи в разные руки детей и родителей, распространяя затем на раба ответственность за отцеубийство.
И эти изменения связаны с развитием имущественного права, требований общественной нравственности, — но никак не связаны с «освободительной борьбой».
О социальном составе римского общества можно судить по плутовскому роману «Сатирикон» сенатора Петрония46, действие которого относится к временам Нерона47. Сам Петроний был вынужден, как и Сенека, покончить с собой.
Роман дошел до нашего времени без начала и конца, известно лишь, что Нерон узнал описания многих своих оргий, участником которых был и Петроний. Роман написан живым языком от лица циничного прожигателя жизни Энколпия. Он скрывается от возмездия за ограбление, убийство и… сексуальное святотатство, вдобавок навлекшее на него гнев Приапа, своеобразного древнегреческого бога плодородия, культ которого пышно расцвел в Риме ко времени действия романа. В изображениях Приапа, дошедших до наших дней, утрировались фаллические символы.
-…Но разве не тем же безумием одержимы декламаторы, вопящие: «Эти раны я получил за свободу отечества, ради вас я потерял этот глаз. Дайте мне вожатого, да отведет он меня к чадам моим, ибо не держат изувеченные стопы тела моего».
Впрочем, все это еще было бы терпимо, если бы действительно открывало путь к красноречию. Но пока эти надутые речи, эти кричащие выражения ведут лишь к тому, что пришедшему на форум кажется, будто он попал в другую часть света. Именно потому, я думаю, и выходят дети из школ дураки дураками, что ничего жизненного, обычного они там не видят и не слышат, а только и узнают что россказни про пиратов, торчащих с цепями на морском берегу, про тиранов, подписывающих указы с повелением детям обезглавить собственных отцов, да про дев, приносимых в жертву целыми тройками, а то и больше, по слову оракула, во избавление от чумы, да еще всяческие округленные, медоточивые словоизвержения, в которых и слова, и дела как будто посыпаны маком и кунжутом.
Питаясь подобными вещами, так же трудно развить тонкий вкус, как хорошо пахнуть, живя на кухне. О, риторы и схоласты, не во гнев вам будет сказано, именно вы-то и погубили красноречие! Пустословием, игрою в двусмысленность и бессодержательную звонкость вы сделали его предметом насмешек, вы обессилили, омертвили и привели в полный упадок его прекрасное тело. Юноши не упражнялись в «декламациях» в те времена, когда Софокл и Эврипид находили нужные слова. Кабинетный буквоед еще не губил дарований во дни, когда даже Пиндар и девять лириков не дерзали писать Гомеровым стихом. Да, наконец, оставляя в стороне поэтов, уж, конечно, ни Платон, ни Демосфен не предавались такого рода упражнениям. Истинно возвышенное и, так сказать, девственное красноречие заключается в естественности, а не в вычурностях и напыщенности. Это надутое, пустое многоглаголание прокралось в Афины из Азии. Словно чумоносная звезда, возобладало оно над настроением молодежи, стремящейся к познанию возвышенного, и с тех пор, как основные законы красноречия стали вверх дном, само оно замерло в застое и онемело. Кто из позднейших достиг совершенства Фукидида, кто приблизился к славе Гиперида? (В наши дни) не появляется ни одного здравого произведения. Все они точно вскормлены одной и той же пищей: ни одно не доживает до седых волос. Живописи суждена та же участь, после того как наглость египтян донельзя упростила это высокое искусство.
[Петроний Арбитр «Сатирикон»]
Совершив все эти немыслимые для его юного возраста преступления, Энколпий путешествует по гостеприимным домам и провинции, повсюду предаваясь порокам, совершая преступления и святотатства. Срез римского общества в романе достаточно широк: от дома богатого римского всадника Ликурга, до греческой «глуши» и усадьбы богатого вольноотпущенника Трималхиона, рвущегося в «высший свет».
Вольноотпущенник Трималхион не только желает казаться образованным, он с важностью поддерживает рассказы о гладиаторах, как бы намекая, что сам был не обычным рабом, а гладиатором, которые, и не получив вольную, были вхожи в высшее римское общество.
Это вполне узнаваемый тип человека, умеющий отлично «устроиться» при всех «общественных формациях», нисколько не задумываясь над вечными проблемами и вопросами.
Трималхион сообщает гостям: «Теперь у меня две библиотеки: одна — греческая, вторая — латинская», тут же обнаруживается, что ни одной из своих книг он не читал, а в его голове перепутались известные герои и сюжеты эллинских мифов и гомеровского эпоса, поскольку он никогда не отождествлял себя с героями книг и мифов, о которых, конечно, наслышан. Он не давал себе повода задуматься о собственном нравственном выборе, считая это для себя «слишком большой роскошью», поэтому все имена и события, которые он пытался механически вызубрить, смешались в его сознании в причудливое месиво. Его высокопарные рассуждения о гладиаторах не только смешны, но даже… смущают развращенных гостей, собравшихся за его столом. Даже они понимают, что древние герои, о которых он пытается нравоучительно рассуждать, в чем-то схожи с гладиаторами, поскольку вступают в схватку с судьбой, из которой еще никто не вышел победителем.
На громадном серебряном блюде слуги вносят целого кабана, из которого внезапно вылетают дрозды. Их тут же перехватывают птицеловы и раздают гостям. Еще более грандиозная свинья начинена жареными колбасами… Затем три мальчика вносят изображения трех Ларов (боги-хранители дома и семьи). Трималхион сообщает, что их зовут Добытчик, Счастливчик и Наживщик…
Описание пира, где бьют струи шафрана, а из жаркого вылетают дрозды из свинины, — наводит на мысль, что где-то герои бьются с чудовищами, решают мировоззренческие вопросы бытия, а все плоды вкушает такой вот «угнетенный раб» Трималхион. И эти бытовые подробности куда больше сообщают нам о власти и нравственности, чем любая из «прогрессивных идеологий».
 |
 |
| «Сатирикон». Илл. к изданию 1534 г. и к амстердамскому изданию 1756 г.
Гравюра на меди. |
|
Самоуверенный заносчивый вольноотпущенник наслаждающийся плодами своего рабства за столом, роскошь которого превосходит все когда-то виденное Энколпием, вполне любезен со своими гостями, понимая, что никто из них не может позволить ничего подобного. Но прямо на пиру заигрываются сцены, когда он, вчерашний раб, с неоправданной жестокостью срывается на прислуживающих рабов. Гости будто видят, через что довелось пройти ему самому, чтобы утопать в роскоши. Вспышки его гнева внезапны и столь же назидательны, как и его «ученые» беседы, они не дают забыть пройдохам, собравшимся за его столом, что и они в его глазах нисколько не выше прислуги.
Затем началось такое, что просто стыдно рассказывать: по какому-то неслыханному обычаю, кудрявые мальчики принесли духи в серебряных флаконах и натерли ими ноги возлежащих, предварительно опутав голени, от колена до самой пятки, цветочными гирляндами.
[Петроний Арбитр «Сатирикон»]
В конце пира хозяин, бывший раб, живущий лучше присутствующих на пиру свободных людей отнюдь не благодаря своим достоинствам или талантам, а как раз по причине порочности и заурядности, решает огласить… свое завещание с подробным описанием пышного надгробия и эпитафии собственного сочинения с детальнейшим перечислением всех своих званий и заслуг. И в самом этом нудном перечислении мы слышим настолько знакомые нотки, что начинаем сомневаться, а о таких ли уж далеких временах идет речь? Сколько раз мы были вынуждены выслушивать подобные перечисления от таких же разбогатевших на пресмыкательстве «вольноотпущенников»…
Окончательно растрогавшись, Трималхион произносит речь о пользе освобождения всех угнетенных от рабства: «Друзья! И рабы — люди: одним с нами молоком вскормлены. И не виноваты они, что участь их горька. Однако, по моей милости, скоро они напьются вольной воды, Я их всех в завещании своем на свободу отпускаю… Все это я сейчас объявляю затем, чтобы челядь меня теперь любила так же, как будет любить, когда я умру».
Образ Трималхиона настолько реалистичен, что кажется, будто он до сих пор пирует где-то в окружении своих рабов, в кампании авантюристов и воров, просто нас с вами на тот пир не позвали. Но и большинство гостей — тоже никто отдельно не приглашал на этот дом, они случайно оказываются на пиру, где одно перечисление блюд уже говорит, что обычный человек не имеет физических возможностей даже просто все их попробовать. Ритуалы и выучка рабов свидетельствует, что пир этот не является чем-то из ряда вон выходящим, подобное пиршество в доме Трималхиона – привычное дело.
Роман, как и любое эпическое произведение щедро пересыпан вставками каких-то историй. Но, в отличие от сказаний о героях, речь в этих историях идет о грехопадении благочестивой вдове (непременно на кладбище, над телом покойного супруга и, конечно, с бродячим солдатом), о колдунье, выкравшей для своих обрядов тело умершего мальчика и заменившего его чучелом.
Все истории, включенные в роман, из разряда «бывает же такое». Это именно то, что происходит «на заднем плане» героических эпосов, когда Юпитер выясняет отношения с Сатурном, а Геркулес сжимает зубы от ярости от очередного унижения перед Еврисфеем. С легкой издевкой мы невольно размышляем, что при всех своих подвигах Геракл имеет список документально заверенных заслуг, намного скромнее, чем у бывшего раба Трималхиона.
Главный герой романа Энколпий падает все ниже, но его приключения все больше напоминают… мрачные странствия Гельгамеша, в которых он, как и Энколпий, теряет друзей и спутников.
По традиции мениппей48 Петроний украсил свое произведение и стихотворными вставками, весьма похоже пародируя возвышенный стиль и манеру латинских поэтов-классиков Вергилия, Овидия, Горация, Гая Луцилия… но так, будто у этих поэтов все перепуталось в голове, как у вольноотпущенника Трималхиона.
 |
 |
| Гюстав Доре (1832-1883)
«Гаргантюа и Пантагрюэль» |
Оноре Домье (1808-1879)
«Гаргантюа и Пантагрюэль» |
Дошедшие до нас отрывки «Сатирикона» на века упрочили позиции античной сатиры, породив термин «раблезианский юмор» или «раблезианство». Франсуа Рабле49, здраво оценив свои физические возможности при описании пиршества в доме Трималхиона, выводит главными действующими героями двух добродушных великанов Гаргантюа и Пантагрюэля, предающихся чревоугодию с таким же энтузиазмом.
Эта «приземленная» точка зрения заставляет в прагматичном русле задуматься будущих «героев», столь ли уж нужны их подвиги народу, упивающемуся описанием чужих пиров и неумеренного обжорства? Не являются ли они такой же борьбой Дон Кихота с ветряными мельницами из одноименного романа Мигеля де Сервантеса Сааведры50?
Роман Сервантеса о Дон Кихоте вполне эпичен по складу, повествуя о странствия героя… от таверны к таверне. Его спутника Санчо Пансу вполне можно охарактеризовать в качестве «яркого представителя» того самого народа, об освобождении которого от разного рода чудовищ так печется главный герой. Но, конечно, не конкретно о судьбе своего верного оруженосца, которого забавляет и даже умиляет непрактичность хозяина. Как любой представитель народа, Санчо куда более опечален недостатком провизии и бытовых удобств в их совместных приключениях на пути к славе.
…И слава тоже торопится к герою, судя по поэтическим посвящениям Дон Кихоту, написанным некими вымышленными поэтами, в которых современники узнавали тех, кого пародировал Сервантес.
 |
 |
| Иллюстрации Гюстава Доре (1832-1883) к роману «Дон Кихот» | |
РЫЦАРЬ ФЕБА ДОН КИХОТУ ЛАМАНЧСКОМУ
сонет
Учтивейший и лучший из людей!
Твой добрый меч разил врагов так рьяно,
Что, хоть с тобой мы одного чекана,
Ты стал, испанский Феб, меня славней.
Сокровища и власть своих царей
Восточные мне предлагали страны,
Но все отверг я ради Кларидьяны,
Чей дивный лик сиял зари светлей.
Когда я буйствовал в разлуке с нею,
Передо мною даже ад дрожал,
Страшась, чтоб там я всех не покалечил.
Ты ж, Дон Кихот, любовью к Дульсинее
И сам себе бессмертие стяжал,
И ту, кому служил, увековечил.
СОЛИСДАН ДОН КИХОТУ ЛАМАНЧСКОМУ
сонет
Хоть с головой, сеньор мой Дон Кихот,
У вас от чтенья вздорных книг неладно,
Никто на свете дерзко и злорадно
В поступке низком вас не упрекнет.
Деяньям славным вы забыли счет,
С неправдою сражаясь беспощадно,
За что порой вас колотил изрядно
Различный подлый и трусливый сброд.
И если Дульсинея, ваша дама,
За верность вас не наградила все ж
И прогнала с поспешностью обидной,
Утешьтесь мыслью, что она упряма,
Что Санчо Панса в сводники негож.
А сами вы — любовник незавидный.
[Мигель де Сервантес Сааведра «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский»]
Мениппейская сатура48 этих посвящений дает широкий диапазон «общественного мнения» и позволяет сделать заключение, что даже высокая страсть Дон Кихота воспринимается далеко неоднозначно, не говоря о его свершениях.
…Литература, как верный спутник человека, отражает мысли и чувства людей, их нелегкую жизнь на обочине «героев нашего времени», чьи «подвиги» иногда не только не имеют практического смысла, но заставляют тревожиться, чтобы наши «герои» сами себе не навредили «освободительной борьбой».
Литература вне всяких «исторических преобразований» легко выявляет, кому хорошо во всех «общественных формациях», независимо от отношений «орудий труда к средствам производства», ведь попутно человечество вынуждено кормить множество «вольноотпущенников», желающих съесть за один вечер то, что не съедают другие за всю жизнь.
Только литература в самых циничных рассуждениях погрязших в пороках персонажах дает тот нравственный выбор, который не в состоянии дать тонны нравоучительных клинописей. Вместе с тем, литература позволяет каждому осуществить мечту о подвигах и славе, о захватывающих приключениях, просто потому, что ее читатель… изначально нравственный человек, по своей природе не склонный к злу, но способный его совершать под дурным влиянием. Литература может быть оценена лишь людьми, способными сделать выбор между добром и злом. Она создается лишь в твердой уверенности, что в каждом из нас непременно победят лучшие качества. В противном случае нет надобности трудиться и над сюжетом, поскольку в голове человека безнравственного, неспособного верно определить свою сторону, перемешаются и герои мифов, как в голове вольноотпущенника Трималхиона.
Нравственность, в конечном счете, это личный выбор человека, его собственное определение своего пути. Прямые назидания или навязываемые идеологии – лишь сковывают этот выбор, а значит, не помогают, а мешают развитию человеческой души. Оно происходит один на один, в соприкосновении с настоящей литературой, способной переродить пафос эпического жанра в неудержимый юмор Мениппейской сатуры.
В задачу литературы не может входить «беспощадное бичевание порока» или «разоблачение всего общества». Литература – не палач, а главный предмет ее искусства – человек во всей сложности и неоднозначности своей природы. Литература, как остроумный собеседник на случайном пиру, может и развлечь и подыграть, но не оставит душу в смятении, «поставив вопросы перед всем обществом», — а честно ответит на самые сложные вопросы, которые ставит перед нами сама жизнь.
* * *
В литературном изложении русских народных сказок мы встречаем дописанный «счастливый конец» канонического мифа о Геракле. Герой сказки Пётра Павловича Ершова51 (1815-1869) «Конек-горбунок» Иванушка-дурачок совершает невиданные подвиги по приказу старого царя, показанного неумным человеком, испорченным властью. По его велению деревенский простачок Иван становится героем удивительных приключений, в конце концов, вынужденный пройти по приказу царя те испытания, которые были поставлены ему условием женитьбы на Царь-девице, тоже имевшей божественное происхождение: «Месяц — мать мне, солнце — брат».
Эти испытания заведомо делают возможными их преодоление обычным человеком Иваном лишь благодаря магическим возможностям, носителем которых выступает невзрачный Конек-горбунок, сын чудесной кобылицы, которую укрощает Иван в самом начале сказки.
Иван проходит все испытания, полностью перерождаясь, становясь достойным власти и руки Царь-девицы.
Царь, попытавшийся сделать то же самое, погибает, — что, под общее ликование, возводит бывшего деревенского дурачка на престол, который он вовсе не желал занимать, стараясь держаться от власти, как можно дальше.
Сказка «Конек-горбунок» заканчивается общим пиром и ликованием, самого правления мы не видим, но понимаем, что Иван полностью меняется после того, как проходит установленные Царь-девицей испытания и становится ее мужем.
Неслучайно в финале сказки именно Царь-девица, вполне ощущая свое родовое право на престол, обращается к народу:
«Царь велел вам долго жить!
Я хочу царицей быть.
Люба ль я вам? Отвечайте!
Если люба, то признайте
Володетелем всего
И супруга моего!»
[П.П. Ершов «Конек-горбунок»]
В сказке изображаются красочные сцены народной жизни, мы знакомимся с народными преданиями и представлениями, но в ней практически не заметен сам процесс государственного управления. Все задачи «батюшки-царя» — на уровне загадывания желаний, а их выполнение слишком отдает лакейским «чего изволите». Поэтому и антагонистом Ивану во дворце выступает… хорошо нам знакомый по «Сатирикону» тип, отраженный в образе вольноотпущенника. «Конек-горбунок» выявляет ту же степень оторванности правящей верхушки от жизни «простых оруженосцев», как жизнь спустившихся с небес небожителей.
Но, как мы видим в сказке, это вовсе не означает, что те остаются в неведении, чем же занимается царь-государь, пробавляющийся сплетнями с кухни, с упоением грезящий о новых диковинках. Изолированность царского дворца, наполненного конюхами, поварами, постельничими и прочей челядью, — мнимая, никакие стены и высота положения в обществе никого еще не укрыли от меткого народного определения,
На волне интереса к классицизму в XVIII веке жанр эпической поэмы52, предполагающий открытое нравоучение, вначале пытается разработать Василий Кириллович Тредиаковский53 (Тредьяковский). В 1766 году он издает поэму «Телемахида» — как вольный перевод «Приключений Телемаха» Фенелона, выполненный гекзаметром. Произведение и его автор сразу же становятся объектом насмешек и нападок, в первую очередь, на светских приемах высшего света.
В «Эрмитажном этикете» императрицы Екатерины II устанавливалось шуточное наказание за нарушение этикета: «Если кто противу вышеписанного проступится, то по доказательству двух свидетелей, за всякое преступление должен выпить стакан холодной воды, не исключая того и дам, и прочесть страницу „Тилемахиды“ (Третьяковского). А кто противу трёх статей в один вечер проступится, тот повинен выучить шесть строк „Тилемахиды“ наизусть».
Попытка Тредиаковского возродить классический жанр в литературе, выступив с «серьезной», т. е. пресыщенной морализаторством поэмой, полностью провалилась. Хотя именно в этот период классицизм полностью побеждает в архитектуре, украшая каждый помещичий особняк «греческим» портиком с непременными колоннами, выполненными не только из кирпича, но и из дерева.
Это вовсе не означает, что в России не было литературного интереса к античной мифологии. До сих пор пользуется огромной популярностью вышедшая в 1798 году в Петербурге «Энеида» И.П. Котляревского54.
Иван Петрович написал ее мягким украинским языком, отлично понимаемым всей Россией. Древний эпос в изложении Котляревского приобрел то качество, которым почти два века покоряет сердца читателей сказка про Конька-горбунка: в нем заговорил сам народ, давая свою оценку правителям и богам, забывшим, что без него… они, собственно, никто.
Жанр эпической поэмы в русской литературе классицизма развивался двумя творческими приемами: в виде подражания классическим сюжетам античных авторов, либо с изображением подлинной истории и характеров реальных, исторических лиц. Таким образом, выработались два подхода: художественный и исторический.
Обращение к высоким жанрам прошлого обычно объясняется исключительно необходимостью осмысления настоящего. Но так называемая историческая эпическая поэма – вытекала из приема литературной аллегории, когда вполне реальные исторические персонажи отождествлялись с античными героями или богами, причем, не только в поэмах, но в посвящениях, сонетах и риторике… из вежливости и, конечно, из лицемерия. Распространенность этого приема объяснялась желанием быть произвести благоприятное впечатление в обществе.
Античные сравнения и аллегории и в изустной речи считались признаком образованности и культуры. В приведенном выше стихотворном отрывке из романа Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» есть обращение к Дон Кихоту: «Ты стал, испанский Феб, меня славней». Феб (от лат. «лучезарный») – латинский аналог древнегреческого бога Аполлона. Уже Сервантес использует этот прием в сатирическом подтексте, показывая, насколько нелепо это выглядит в реальной жизни. Античные аллегории были необычайно популярны более четырех веков после проснувшегося интереса Возрождения, пока не стали считаться неуместным анахронизмом56.
«Энеиду» Котляревского и «Конька-горбунка» Ершова объединяет огромная творческая работа над народным фольклором и этнографическим материалом, юмористическая окраска повествования, бережное отношение к картинам быта, народных обычаев, одежды, — и все это создает яркий национальный колорит этих произведений.
Их персонажи ведут себя обычно, будто не подозревая, что стали героями народного эпоса, им некогда произносить нравоучительные монологи, они живут, стараясь преодолеть возникающие препятствия. Лишь у П.П. Ершова морали Иванушке читает горбатый ушастый конек, чьи попреки «а помнишь, я говорил» — глупо воспринимать всерьез.
У И.П. Котляревского античная история Вергилия вообще погружена в современную ему украинскую глубинку. Эней и его товарищи выступают перед читателем в качестве кошевого атамана и запорожских казаков, в фигурах олимпийских богов легко распознать украинских панов-помещиков с их разгульным нравом и прочими «мелкими недостатками».
Незадолго до «Телемахиды» Тредиаковского Михаил Васильевич Ломоносов55 (1711-1765) создает эпическую поэму «Петр Великий», считая, что героическая поэма должна правдиво повествовать о наиболее важном событии отечественной истории, в канонической форме, но с оригинальными приемами нового времени. В качестве такого приема он использовал александрийский стих, в отличие от русифицированного гекзаметра «Телемахиды» Тредиаковского.
Василия Кирилловича Тредиаковского намного меньше волновали вопросы государственного управления и укрепления государственной мощи, чем титана науки и просвещения своего времени Михаила Васильевича Ломоносова. В характеристике личности Ломоносова даже в ХХI веке сложно удержаться от античной аллегории.
В противоположность Ломоносову Тредиаковский отводил реальное истории служебное, подчиненное положение. Он утверждал, что чем отдаленнее эпоха, изображаемая в поэме, тем свободнее будет чувствовать себя поэт в творческом порыве. И поэтому для своей поэмы выбрал «времена баснословные или иронические», ориентируясь на эпопеи Гомера, которые, по мнению Тредиаковского, не были и не могли быть созданы «по горячим следам».
Выбор сюжета определила и нравственная позиция Тредиаковского, считавшего, что все события реальной истории, прежде чем стать основанием эпопеи, должны откристаллизоваться в народном сознании, получить единую нравственную оценку. А преждевременная канонизация еще не забытых реальных личностей, навязываемая эпосом оценка реальным событиям – являлась, по его мнению, неэтичной. «Баснословность» героев, их действительная легендарность, с точки зрения Тредиаковского, должна была вначале оставить неизгладимый след в народной памяти, откристаллизовавшись в общее представления о них, их роли в судьбах своего государства, народа, эпохи, т.е. получить нравственную оценку.
 |
| Петр Михайлович Шамшин (1811—1895) «Петр Великий спасает утопающих на Лахте» |
Иван Петрович Котляревский, продвинулся еще дальше в этом направлении, под маской античной аллегории разместив своих героев на народной почве посреди украинской степи, — заставив их жить одной жизнью с народом и выслушать в свой адрес все, что у народа «накипело на душе».
Но никакие предварительные рассуждения не могут определить заранее судьбу литературного произведения, эстетическую триаду замкнет только читатель, без него литература мертва. Насколько бы логичными и этически правильными не казались нам рассуждения Тредиаковского, а современники сочли ее литературным анахронизмом, отмечая, что поэт опоздал со своей «Телемахидой» на полвека.
Но и Ломоносов в поэме «Петр Великий» не смог найти органичного художественного приема для создания жизнеспособного эпического произведения. Александрийский стих, которым он решил писать поэму, не удерживает эпической формы, перегруженный публицистическими отступлениями автора в прозе. Ломоносов постоянно выбивается из строя поэтической формы, вставляя прозаические доказательства гениальности своего героя. Но читатель чувствует, что не сам Петр I, а автор поэмы пребывает во внутреннем диалоге с противниками реформ и преобразований, Народное мнение еще не устоялось, нравственная оценка еще не вынесена, поэтому Ломоносов вынужден делать прозаические вставки, сам того не понимая, что разрастающаяся поэма все более напоминает жанр «Меннипейской сатуры».
Потом, пристав к Соловецкому острову для молитвы, при случае разговора о расколе сказывает государь настоятелю тамошния обители о стрелецких бунтах, из которых второй был раскольничий.
Пою премудрого российского героя,
Что, грады новые, полки и флоты строя,
От самых нежных лет со злобой вел войну,
Сквозь страхи проходя, вознес свою страну;
Смирил злодеев внутрь и вне попрал противных,
Рукой и разумом сверг дерзостных и льстивных;
Среди военных бурь науки нам открыл
И мир делами весь и зависть удивил.
К тебе я вопию, премудрость бесконечна,
Пролей свой луч ко мне, где искренность сердечна,
И полон ревности спешит в восторге дух Петра
Великою гласить вселенной вслух
И показать, как он превыше человека
Понес труды для нас неслыханны от века;
С каким усердием отечество любя,
Ужасным подвергал опасностям себя.
Да на его пример и на дела велики
Смотря, весь смертных род, смотря, земны владыки
Познают, что монарх и что отец прямой,
Строитель, плаватель, в полях, в морях герой.
Дабы российский род вовеки помнил твердо,
Коль, небо! ты ему явилось милосердо.
Ты мысль мне просвети; делами Петр снабдит,
Велика дщерь его щедротой оживит.
[М.В. Ломоносов «Петр Великий»]
Бытовавшей в то время «возвышенной» иносказательностью, более соответствующей изобразительному искусству, герой ограждается Ломоносовым не только от реальных событий и всех «второстепенных» персонажей поэмы, но и от читающей публики. В языковой среде уже прошли определенные изменения, четко определившие роль любого древнего эпоса
не только от читателя. В поэме будто предстает очередной парадный портрет Петра I, увековеченного на фоне отретушированной реальности.
Поэма Котляревского уже ярко показала, насколько смешными могут быть такого рода отвлеченные аллегории на отечественном историческом материале. Однако господствовавшая в этот период во всем мире античная аллегория, как основной способ искусственного возвышения сильных мира сего – над всеми слоями общества, оказав неизгладимое влияние и на всю русскую литературу. Михаил Ломоносов тоже не вполне избежал этого влияния своего времени. К тому же он знал, что его поэма, как любое литературное произведение будет подвергнуто жесткой цензуре.
Он писал своего рода эталонное произведение, на которое должны был ориентироваться все последующие авторы произведений, которые решились бы изобразить Петра I. И это, безусловно, сдерживало его творческий порыв.
Любое сравнение, эпитет, доказательство необыкновенных качеств персонажей поэмы – должно было напоминать читателю о героях античных эпосов, имевших так мало общего с окружавшими его людьми. Это не «Конек-горбунок» Ершова и не «Энеида» Котляревского, где с первых страниц нас окружает гомон, суета, ежедневные заботы, личные расчеты и мировоззренческие соображения множества народных типов, с которыми мы сталкиваемся каждый день. У Ершова или Котляревского герой не был бы столь уверен в правильности принимаемых им решений, а некоторое время бы в раздумчивости чесал в затылке, предаваясь прозаическим сомнениям. Да и разговор бы у него в такой момент состоялся не о стрелецких бунтах, подавление которых Петром I было воспринято неоднозначно как современниками, так и потомками, — а о чудесах Белого моря и заморских диковинках.
В поэме «Медный всадник» Александра Сергеевича Пушкина57 (1799-1837) Петр I стоит на берегу Финского залива в полном одиночестве. К моменту написания поэмы нравственные оценки его деяниям уже вынесены, они стали общими, а поэт лишь облекает в гармоничную форму народную легенду, даже не называя ее героя по имени, потому что всем понятно, о ком идет речь. Петр I упомянут лишь в конце вступления. Сам город Медного всадника описывается, спустя сто лет, а эпическая фигура, упомянутая в вступлении, пронизывает все повествование.

А.Н. Бенуа (1870-1960) Иллюстрации к поэме А.С. Пушкина «Медный всадник»:
|
|
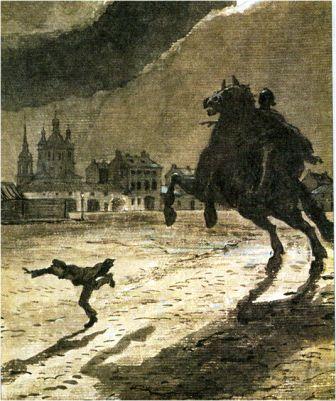
Фронтиспис к поэме А.С. Пушкина «Медный всадник» |
В прологе поэмы Петр I отделен от всех героев и последующих событий не только фразой «Прошло сто лет…», но всей глубиной одиночества на пустынно берегу. Он принимает решение, весь подчиненный «великим думам», которые должны решить стоящую в тот момент перед Россией проблему обороны страны: «Отсель грозить мы будем шведу!»
Сам сюжет разворачивается уже в современности лирического героя, и на первый план неожиданно выходит средний горожанин, мелкий чиновник, полный каких-то «ничтожных» планов на будущее, кажущихся смешными с точки зрения «великих дум» Медного всадника. Но перед нами – человеческая жизнь во всей ее неповторимости, нас захватывает ее течение, хотя в ней нет ничего «героического». Мы любуемся этой картинкой, как нежной акварелью. Ведь молодой человек увлечен, он строит планы на будущее, а все мы знаем, что самое прекрасное в жизни – это наши наивные планы на будущее, а вовсе не их последующее осуществление.
Для Ломоносова сюжет такой поэмы ограничился бы полным посрамлением шведов и последующим пышным расцветом Северной Пальмиры по гениальному замыслу его героя.
В поэме Александра Сергеевича обычный человек, к которому мы уже успели привязаться, а к его скромным мечтам проявляем сочувствие и участие – оказывается полностью уничтоженным, растоптанным, а его мечты, осуществление которых никому бы не принесло «ощутимой пользы» с глобальной, государственной точки зрения, — так и остались неосуществимы. И в момент, когда несчастный герой противостоит всей мощи Медного всадника, мы понимаем, что благо государства как раз и заключается в том, чтобы сбывались эти самые светлые человеческие мечты о счастье. Именно в этом состоит нравственная сила государственной власти.
У сошедшего с ума юноши нет будущего, потому что ему пришлось столкнуться с разбушевавшейся нечеловеческой стихией. Казалось бы, никто не виноват, а вокруг героя столько горя, что его погубленная жизнь – всего лишь малая капля. Однако сценой погони Медного всадника, как олицетворения не только стихии, но и самой Тьмы – Пушкин дает однозначный ответ: трагедия маленького человека, не сделавшего ничего дурного, произошла потому, что Петр I не учел всех последствий своего решений для народа, на сто лет вперед. А ответственность монарха, по его мнению, настолько велика, что поиски решений ради сиюминутной пользы должны были учесть и маленькое, ничтожное в тот момент для Петра счастье героя поэмы. Иначе, каким бы ни было это решение удачным, оно будет нести в себе элемент безнравственности.
В поэме «Медный всадник» в полном бессилии на какой-то момент расписывается его преемник и наследник: «С Божией стихией Царям не совладеть». Однако зрелище народного бедствия заставляет царя взять себя в руки. Понимая, свою личную ответственность, вместе со своими генералами организовывает спасение «страхом обуялых» тонущих людей.
Согласно самому жанру эпической поэмы, в «Медном всаднике» Пушкин ставит проблему нравственности власти – но уже не с точки зрения легитимности ее происхождения, он не ставит под сомнение само право Петра или его наследника (Александра I) принимать судьбоносные решения. Он рассматривает сами решения именно с наиболее важной и для современного государственного управления точки зрения – насколько в принимаемых решениях учитываются все последствия для народа на длительный период времени. И подобное прогнозирование последствий как раз и учитывалось емким определением «судьбоносный».
Пушкин не снимает ответственности с власти, «чьей волей роковой / Под морем город основался…». Как показывает эпическое вступление, сам сюжет поэмы основывается на событиях, которых не должно было произойти, ведь поэму предваряют строки о побежденной стихии, — в начале произведения ничего не предвещает печальной кончины подающего надежды юноши, не пережившего ужасное наводнение.
Устраивая столицу, власть должна была предвидеть натиск разбушевавшейся стихии заранее предпринять меры по предотвращению подобных событий. В судьбе несчастного Евгения, преследуемого воспетым Ломоносовым эпическим героем в виде беспощадного медного всадника, — Пушкин показывает, насколько хрупкой оказывается судьба простого человека с его незатейливыми мечтами о доме, наполненном любовью, если власть считает возможным пренебречь жизнью сограждан ради необоснованных и неоправданных «возвышенных прожектов».
Сцена погони Медного всадника за несчастным героем, не выдержавшим свалившихся на него жизненных невзгод, превысившим его человеческий ресурс, — явно навеяна сценой сражения Дон Кихота с ветряными мельницами. Но если в романе Сервантеса эта сцена становится нарицательной, выявляя полную оторванность Дон Кихота от реальности, то в случае столкновения с Медным всадником все гораздо прозаичнее и страшнее. Дон Кихот – это герой, не знающий, куда в реальной жизни направить свои лучшие чувства и мысли. А, может быть, делающий вид, что не понимает этого, превращая саму свою жизнь в аллегорию, пытаясь соответствовать главному герою эпического повествования. Дон Кихот – обычный человек, решивший стать вровень с теми, чья жизнь для него стала примером настолько, что он слился с любимыми персонажами в своем сознании, а окружающие представляются ему аналогичными персонажами прочитанных книг.
Борьба с ветряными мельницами, описанная Сервантесом, заключает в себе понятный сарказм не только для его современников. Дон Кихот сталкивается с силами, олицетворяющими то, что превышает возможности обычного человека, но с которыми вовсе не следует бороться таким образом. Ведь сами по себе ветряные мельницы выполняют определенную функцию, а если они с ней не справляются, то необходимо наладить их работу другим способом. Сарказм писателя в отношении своего героя заключается в том, что Дон Кихот, в отличие от своего верного оруженосца, понятия не имеет, для какой цели ветряные мельницы сооружались вообще. Но он считает, что они вполне могут ему пригодиться для того, чтобы снискать себе славу эпического героя.
Ветряные мельницы — не только отражение природной стихии, но, прежде всего, государственной власти. Ведь не зря оборот «борьба с ветряными мельницами» используется в качестве определения предрешенного результата любого противостояния отнюдь не слепой природной стихи, а вполне определенным людям, облеченным властью, противостоять которым обычный человек может лишь, будучи столь же неадекватным, как Дон Кихот..
Медный всадник представляется сошедшему с ума герою поэмы Пушкина – в виде своеобразной ветряной мельницы, победить которую невозможно. Он спасается бегством от разъяренного всадника, но острота конфликта в том, что герой Пушкина имел совершенно другие планы на будущее. Это не Дон Кихот, возомнивший себя героем эпоса, это Санчо Панса, решивший прожить жизнь достойно, вовсе не желая бороться с ветряными мельницами. И вся его уничтоженная жизнь, его попранное право на счастье – совершенно иначе высвечивает огромную пропасть между современным эпическим героем, непременно вершащим судьбы множества своих маленьких, но отнюдь не «ничтожных» оруженосцев, — и обычным человеком, который хочет жить, любить и быть счастливым.
И, как мы понимаем, ни один современный эпический герой не способен совершить ни один их своих подвигов без поддержки своих верных оруженосцев. С романа Сервантеса нравственность намеренно нелепого и смешного эпического героя, в «подвигах» которого современники безошибочно угадывали «эпохальные» свершения сильных мира сего, — в том, как герой воспринимает участливую жалость «обычного человека», его житейскую мудрость, его неоценимую помощь.
Безответственность Дон Кихота по отношению к своему верному оруженосцу граничит с крайней безнравственностью. Он не думает, как и когда то сможет отдохнуть, набраться сил, как после «подвигов» хозяина к нему станут относиться окружающие. Хотя мы понимаем, насколько мудрее и практичнее своего хозяина Санчо Панса, мы воспринимаем его образ сквозь призму мутноватого взора Дон Кихота Ламанчского. И с этой точки зрения, Санчо Панса «несет бред», все время думает о еде и довольстве, не испытывает никакого желания принимать участия в «подвигах» хозяина, считая их… бесполезными. И мало кто понимает, что нравственность для Сервантеса заключается в «возвеличивании» эпического героя, а в практической пользе его подвигов.
Мы имеем за плечами ХХ век, где войны, гуманитарные катастрофы и чьи-то частные противостояния ветряным мельницам распространились, в первую очередь, на самых беззащитных. Поэтому нам уже сложно воспринимать гуманистический смысл романа Сервантеса, после почти вековой идеологической обработки, будто народ должен с легкостью отбросить свои исконные интересы и участвовать в чьей-то борьбе с ветряными мельницами, а затем безропотно переживать «переходные периоды», устраиваемые Дон Кихотами без царя в голове, полностью оторвавшимися от реальной жизни, решившие сотворить из нее очередной миф.
Но мы уже не улавливаем и лежащие на поверхности нравственные выводы Александра Сергеевича Пушкина, которые долгое время намеренно нивелировались под огульную, неконструктивную критику власти — на уровне возникавших во второй половине ХIХ века «демократических движений». Почти современник Пушкина Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин26 (1826-1889 гг.) пишет «Историю одного города», где и сам город носит название Глупов, а его население, глуповцы, никак не могут понять («пробудиться»), что без всякой власти им, дескать, жить намного лучше. И в таком подходе уже нет анализа современности, образ народа приниженный, ущербный, безличностный. Отношения власти и народа показываются тенденциозно, однобоко, подтягиваясь под политические взгляды самого Салтыкова-Щедрина. Портреты градоначальников представляют собой неживые картонки, вызывающие полное отторжение. И какова же альтернатива такому подходу? Вывод напрашивается сквозь желчное описание «страданий народа» — принять власть атамана воровской шайки.
Но это не проблема отношений народа и власти, а проблема в мировоззрении самого Салтыкова-Щедрина, казалось бы, проявившего намного более «нравственный подход», как бы бичующего народ, что тот долго выносит «несправедливую» власть. Это не литературный подход, а метод информационных войн средствами прокламаций, листовок и «запрещенной литературы». Он может погрузить читателя в депрессию, на краткое время внушить, будто никакого выхода, кроме как разбойничьего кистеня, не имеется.
У такой «литературы» есть свои ограничения. Во-первых, ее сложно читать. Именно о таких произведениях, когда читатель чувствует внутренний барьер, говорят «это надо читать!» На самом деле, читать это бессмысленно, потому как читатель не «пропускает через себя» образный ряд, так как не может полностью ассоциировать свою жизнь с дикими «глуповцами». Но в полной мере может почувствовать злость к людям, издевку и отсутствие сочувствия.
 |
 |
| Иллюстрация к роману Михаила Салтыкова-Щедрина «История одного города». Кукрыниксы, 1939 г. | |
Поэма «Медный всадник» и драматическая поэма «Борис Годунов» написаны Пушкиным в переосмыслении произошедшего нравственного перелома в отношении легитимности получения самой власти и самого процесса государственного управления. Но нас тянет вернуться и перечитать эти вещи, потому что в душе остается «послевкусие» той мировоззренческой мощи, ради которой мы раскрываем книги. Мы помним, с какой любовью к «маленькому человеку», с каким желанием действительно решить возникающие проблемы бескровно, на ткани литературного повествования – написаны эти поэмы.
Именно в эпических произведениях раскрывается уровень нравственного подхода не только самого автора… но и эпохи, которую он представляет. Две эпические поэмы Пушкина выявляют его личный уровень нравственности – куда значительнее, чем амурные стишки или любовная лирика. Александр Сергеевич полностью проникается всей глубиной ответственности, выступая в интересах народа, не скатываясь до огульщины в критике власти. Он рассматривает человека во власти, понимая, что человеку свойственно ошибаться. Его героям, не имеющим божественного происхождения, сложно предусмотреть, к каким тяжелым последствиям могут привести их решения, которые им искренне кажутся в момент их принятия – единственно верными.
А Салтыков-Щедрин пишет заведомо оскорбительный для любой власти пасквиль, адресуясь напрямую к народу. Он оскорбляет народ, подначивает, провоцирует… как некий персонаж древней эпической поэмы, имеющий чуть ли не божественное происхождение, а не такой же «человек из толпы». Он подталкивает людей на достаточно опасный путь, но что же им предлагается взамен?.. Ничего! Отсутствие положительных героев в «Истории одного города» — отрезает и читателю возможность нравственного роста, уничтожает сам смысл нравственного выбора. Складывается впечатление, что сам автор придерживается убеждения, что любой представитель народа на месте градоначальника лишь проявит новые чудачества.
Салтыков-Щедрин не берет на себя и толики ответственности за происходящее и за тех, кто прочтет его труд. Читатель остается «наедине с собой», поскольку произведение не оставляет возможности нравственного выбора. Писателя больше интересует не жизнь читателя, воспринимаемого им «народной массой», а действия, к которым он подтолкнет людей, так и не дав им задуматься о жизни. «История одного города» — это не жизнь, это злая и безбожная пародия на жизнь.
Салтыков-Щедрин ничем не лучше портретов своих градоначальников, выступая из-за спин толпы безвестных «глуповцев», считая, что те должны «бороться за свои права», примчем, самыми примитивными методами рогатины и дубины. У Пушкина иная позиция – он выходит один между властью и народом, высказывая вещи, которые сложно выкрикивать длозунгами в толпе. У него созданы не только народные образы, но и образы тех, кто облечен власть, причем в моменты, когда необходимо принимать судьбоносные решения. Он считает что нравственное развитие человека во власти может быть лишь на почве сострадания народу, в попытке решить его проблемы и целиком разделить его судьбу.
Мировоззрение Александра Сергеевича Пушкина вытекает из анализа Пугачевского бунта, вкратце выражаемое: «Не дай Бог увидеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный». Вопрос легитимности власти, решаемый Салтыковым-Щедриным в лубочной манере плоских зарисовок, Александром Сергеевичем решается глубоким осознанием, что ничего нравственного не принесет с собой во власть человек, решивший, будто во власть можно прийти по чужой крови.
До сих пор тиражируется мнение, будто Пушкин лишь «по чистой случайности» не попал на Сенатскую площадь 25 декабря 1825 года, хотя все его творчество свидетельствует как раз об обратном. Однако в восстании декабристов им были отмечены характерные особенности, отличавшие эту новую попытку переворота, отличавших этот заговор от череды прежних «гвардейских переворотов».
Даже в Отечественной войне 1812 года основные сражения по бытовавшим этическим канонам проводятся регулярными армиями и вне населенных пунктов. Это война впервые получила наименование «отечественной», поскольку против неприятеля впервые восстал сам народ, организуя партизанские отряды.
Безнравственность декабрьского восстания 1825 года состояла в том, что впервые обычный гвардейский переворот шел под прикрытием народных масс, публично. Еще с Павлом I гвардия расправилась тайно, объявив, будто император скоропостижно скончался. Но декабристы потому и считались основоположниками всех последующих «демократических движений», что на практике показали, как следует использовать «глуповцев» — в качестве «живого щита».
«Основная мысль произведения», выделяемая в драматической поэме Пушкина «Борис Годунов», до сих пор формулируется на уровне демократических движений ХIХ века, без учета той всенародной трагедии Гражданской войны, к которой привело впоследствии столь «упрощенное» восприятие отношений народа и власти:
Одна из основных тем, поднимаемых в трагедии, — власть и человек. Пушкин даёт абсолютно чёткое определение: любая власть — есть насилие, а значит зло.
(Википедия «Борис Годунов, трагедия», дата обращения 07.10.2013 г.))
Как видим, «абсолютно четкое определение» дает как раз Салтыков-Щедрин, но в этом он отходит от гуманистического смысла, заложенного в произведениях Пушкина. «Любая власть – есть насилие, а значит зло» — это откровенное приглашение к кровавой сумятице Гражданской войны ради интересов тех, кто привык скрываться за чужими спинами. Но это и путь вне развития всей человеческой цивилизации.
Человеку ежедневно приходится сталкиваться с нравственным выбором. Но надо находить цивилизованные пути решения, а не объявлять всю жизнь – злом, если в ней в равной мере присутствует и добро и зло. И выбор такого рода следует делать за себя лично, не в толпе.
Поэма «Борис Годунов» создана Пушкиным под влиянием масштабного исторического труда «Истории государства Российского» Николая Михайловича Карамзина58 и посвящена периоду царствования Бориса Годунова с 1598 года по 1605 год и последовавшему за ним вторжению Лжедмитрия I. На встрече с царём Николаем I Пушкин прочел ему отрывки из «Бориса Годунова». Эта встреча положила конец ссылке Александра Сергеевича, что было бы невозможно, если бы поэма действительно несла в себе те разрушительные мысли, которые до сих пор приписываются ее автору.
Полностью пьеса была впервые опубликована (с цензурными сокращениями) в конце декабря 1830 года с датой издания 1831 года, согласно обычной традиции, чтобы произведение весь год считалось «новым», а не «лежалым товаром».
Драма была поставлена на сцене лишь в 1866 году, поскольку в ней действительно заложена «несценичность» уже в том, что ряд действий предполагает участие огромной массовки, поскольку само произведение рассматривает противостояние власти и народа. Цензурные сокращения и запрещение публичной постановки трагедии связаны вовсе не с «политикой», а с тем, что исторически факт убийства Борисом Годуновым царевича Дмитрия так и не нашел достоверного подтверждения.
Поэтическая драма «Борис Годунов», написанная преимущественно белым стихом с несколькими прозаическими сценами, несет в себе явное влияние исторических хроник Шекспира, но намного глубже и шире их в анализе отношений власти и народа. До этой небольшой по объему драмы никто с такой безусловной правдивостью не рассматривал сам процесс попытки «прибрать власть к рукам», когда она так близко… И то, во что может превратиться власть, чей путь к ней не был легитимным.
Каким образом входишь во власть – такую власть и получаешь! До Александра Сергеевича Пушкина эту мысль никто не иллюстрировал на трагических образах с такой отчетливостью. Вся драма представляет клубок общественных манипуляций, когда рвущиеся во власть герои поэмы совершают убийства, предательства, вероотступничество, меньше всего думая об Отечестве.
Начинается поэма с затворничества Бориса Годунова в монастыре, чтобы продемонстрировать собственную «нравственную чистоту». Он покинул «все мирское», отказываясь принять московский престол, чтобы заручиться поддержкой народа, добиться, чтобы народ, упав на колени, сам молил принять его царство.
Годунов – искушенный царедворец, он подготовил свое воцарение, но добивается, чтобы в народе возникло наивное убеждение, будто его отказ венчаться на царство связан с искушениями власти: «Его страшит сияние престола».
Ведь народ связывает с властью – множество надежд, а с ними – не меньшее количество иллюзий. Годунов разыгрывает набожность, нежелание принимать грядущее величие, — и народ охотно верит, что Борис именно тот, кто нужен государству в этот момент. Люди сочувствуют Борису, который, по их представлениям, погружен в молитвы, готовясь к огромной ответственности за страну.
Тонкую игру Годунова прекрасно понимает боярин Шуйский, предсказывая развитие событий: «Народ еще повоет да поплачет,/Борис еще поморщится немного, И наконец по милости своей/Принять венец смиренно согласится…».
Он знает страшную тайну Бориса, ведь в своей попытке взойти на престол тот, по мнению Шуйского, совершил убийство. Шуйский не столь наивен, он давно знает Годунова и уверен, что его затворничество не является проявлением искренности с будущими поданными. С изрядной долей цинизма он следит за развитием событий, считая, что Годунов не упустит своего шанса. Он лишь стремится взойти на престол как можно легитимнее, ведь иначе… «понапрасну /Лилася кровь царевича-младенца».
Александр Сергеевич описывает народную толпу, собравшуюся просить на царство Бориса Годунова, не как аморфную массу, выделяя в ней типы, которые рассуждают вполне здраво и самостоятельно. Люди вовсе не отрицают власть, но в этой сцене нет безусловного единства. Голоса подают «один», «другой», «третий», поскольку на площади собрались малознакомые люди. Они обмениваются по-человечески понятными замечаниями, испытывая и долю тревоги, недоверия, не желая участвовать в спектакле, смысл которого знают лишь бояре.
Странное поведение женщины с ребенком, бросающей дитя, чтобы хоть оно расплакалось, когда до них докатывается общий плач, — лишь показывает, насколько нелепо требовать от взрослых людей, чтобы они как дети рыдали и умоляли кого-то стать над ними царем над ними.
И эти народные типы сразу внушают опасение, что на площади возникает не «духовное единение», а закладывается первая трещина в основании трона Бориса.
Само возникновение в народе упорного слуха, будто царевич Дмитрий был убит по приказу Бориса Годунова, — свидетельствует о том, что он так и не смог завоевать народную любовь и доверие. В сцене его воцарения мы видим пример жесткой манипуляции толпой, попытку навязать, как это принято говорить нынче, «общественное мнение». Но мнение народа проскальзывает исподволь, дается краткими, но очень яркими сценами.
Действие такого рода манипуляций крайне непродолжительна, ведь любой человек и в толпе недолго испытывает экзальтированное состояние, после удивляясь самому себе, что же его так растрогало – до коленопреклоненного плача. Перед Годуновым стояла одна задача, в нем горело одно желание – взойти на престол. Но он совершенно не понимает, как себя вести даже с теми людьми, кто в исступлении рыдал на площади. На краткие манипуляции он был способен, но само царствование показывает нам другого Бориса Годунова – неуверенного в себе, не осознающего, что доверие народа не покупается. После раздачи милостыни, строительства жилищ для бедных, он не понимает, почему та толпа, которую он расчетливо доводил до общего плача, — так и не воспринимает его законным правителем.
Перечисление собственных деяний показывает, что сам он так и остается в сознании на том же уровне пережитого им триумфа, чувствуя, что вместе с троном — так и не получил саму власть. Все действия остаются на уровне обычных манипуляций толпой, чем-то вроде раздачи подаяния нищим. Он не ставит перед собой масштабных государственных задач, он просто перераспределяет оказавшиеся в его руках средства, все дальше отходя от людей, ставших его подданными. Он играет роль «доброго царя», не понимая сути государственного управления.
Поэтому ставится показательной сцена, когда Борис Годунов выходит из собора, где служба заканчивается провозглашением анафемы самозванцу, беглому монаху Григорию. И здесь Борис сталкивается с самым обездоленным представителем народа — юродивым Николкой, над которым издеваются даже дети, мальчишки его дразнили и отняли копеечку подаяния.
Эта сцена встречи человека, вознесшегося на вершину власти, но так и не проникшегося ее сутью, — и самого бесправного и не совсем адекватного представителя народа, который должен был бы с легкостью поддаться любым манипуляциям со стороны искушенного в интригах Бориса. Но происходит обратное. Встав над толпой, чтобы навсегда исключить мнение народа из своих дальнейших, подкупая подданных подачками, а не вовлекая их в сам процесс государственного управления, Борис оказывается не в состоянии адекватно реагировать и на замечание юродивого, которое звучит в нем как голос совести.
Он выходит перед столпившимся народом под пение «вечной памяти» царевичу Димитрию. Сидящий на снегу Николка обращается к Годунову со словами: «Николку маленькие дети обижают // Вели их зарезать, как зарезал ты маленького царевича».
Можно на краткий миг завладеть толпой, но гораздо сложнее действительно олицетворять для народа абсолютно необходимую, с точки зрения Александра Сергеевича Пушкина, государственную власть. Люди тонко чувствуют неспособность к государственному управлению, нежелание брать на себя всю тяжесть ответственности. Мысленно каждый мучительно ищет другие варианты, даже находясь в куда более отстраненном от власти положении, чем юродивый Николка, который может ответить на просьбу царя молиться за него: «Нет, нет! Нельзя молиться за царя Ирода — Богородица не велит».
Пушкин раскрывает значение народного мнения, возникающего и формирующегося не на площади в толпе, а во времени, чутко реагирующего на каждое действие Бориса, — как источника истинной власти. Это понимает и сам Годунов, мучительно перебирающий все, что он сделал за шесть лет правления, чтобы подкупить это мнение.
Но людьми нельзя править, если ты не прав. Спорная легитимность правления Бориса – это внешняя сторона конфликта. Внутреннее его содержание – в том, что Борис не сознает самой сути управления, когда люди должны добровольно, без манипуляций и давления извне принять его решение – как единственно правильное… для всех.
Хотя в этом произведении речь идет о временах, исторически отдаленных даже от самого автора, ее персонажи говорят практически современным нам языком, но мы этого не замечаем, поскольку русский язык здесь является полноценным «действующим лицом», в самой богатой лексике раскрывая сложившееся во времени мнение народа.
Напрямую тему мнения народа, как источника власти, неразрывно связанного со всей тяжестью принимаемой на себя ответственности в драме говорят только с цене искушения предательством. Басманов, высоко вознесенный Феодором, «начальствует над войском». Он беседует с Гаврилой Пушкиным, который предлагает ему от имени самозванца «дружбу» и «первый сан по нем в Московском царстве», если воевода подаст «пример благоразумный Димитрия царем провозгласить».
Поначалу мысль о возможном предательстве ужасает Басманова, но он тоже понимает, что Борис не отвечает чаяниям народа, не способен править в сложный момент уже начавшейся хза его спиной — борьбы за власть. Тонко чувствуя эти колебания Басманова между честью и… желанием не прогадать, Гаврила Пушкин говорит об источнике власти как о «мнении народном»:
П у ш к и н.
Но знаешь ли чем сильны мы, Басманов?
Не войском, нет, не польскою помогой,
А мнением; да! мнением народным.
[А.С. Пушкин «Борис Годунов»]
Мнение народное давно не на стороне Бориса Годунова, который не оправдал его, взяв слишком большой аванс, хитрыми манипуляциями заставив просить его взойти на престол. Но мы не сомневаемся, что и сам Гаврила Пушкин ничуть не больше Годунова придает значение «мнению народному», решив навязать в качестве правителя марионетку, сознавая, что у самозванца нет никаких прав на престол.
Он видел, как ловко добивался нужного мнения Борис, считая, что аналогичное получится и у него. Он понимает, что власть покинула Годунова, но не способен проанализировать причины, из-за которых это произошло, в точности так же, как Годунов, считая, что главное в том, чтобы получить власть, а не в том, как ею распорядиться. В сцене с Басмановым он выступает растлителем, не понимая, что сам оказался развращенным той сценой с коленопреклоненным народом, со слезами просившим Бориса взойти на престол. Он не видел того, что творилось среди народа на заднем плане. Как и Борис, он мало ценит действительное мнение народа, принимая за него рев экзальтированной толпы.
Последние сцены расправы над семьей Бориса Годунова и очередного обращения к мнению народа подаются Пушкиным как раз глазами безымянных очевидцев. Отметим важную деталь: если в сцене народного схода, где Борис Годунов принимает царствование, вначале идет ремарка «Народ», как единое целое, затем «Один» и т.д., то эта сцена начинается с ремарки «Один из народа».
На наших глазах к финалу драмы прошло развитие образов честолюбцев и предателей, ввергающих народ в Великую Смуту ради своих амбиций. Но они забывают, что все это время за ними пристально наблюдают те, кем они собрались править, составляя собственное мнение о том, кто и насколько из них прав.
Мнение народа не на стороне Бориса, который накануне народного собрания молился в монастыре. Но оно не может быть и на стороне тех, кто только что совершил расправу над беззащитными членами его семьи. Хотя о самом Борисе в народе возник слух о том, что по его приказу был убит царевич Дмитрий, и все его правление народ жадно ловит подтверждение этому слуху, — никто из них не готов стать соучастником нового убийства.
«Другой» из народа говорит о детях Бориса Годунова «Проклятое племя!», искренне считая, что бояре, входящие в его палаты, идет приводить к присяге сына Бориса Федора. Но даже на это замечание получает отповедь «Первого»: «Отец был злодей, а детки невинны».
Но, пожалуй, больше всего спекуляций возникло на последней фразе драмы «Борис Годунов» — «Народ безмолвствует». Обычно это фраза используется в политической риторике, чтобы подчеркнуть полное отсутствие мнения народа. Отсюда и «хождения в народ», рассуждения о необходимости «пробуждать народ», многочисленные попытки «формирования нового человека» с удобным «мнением коллектива».
Мы понимаем, что такое восприятие последней фразы без эпического полотна сложнейшей страницы истории России – всегда приводит… к Смутному времени. Логика разворачивавшихся перед нами событий выявляла ту или иную степень манипуляций мнением народа, различную природу стремлений его навязать. И в тот момент, когда, казалось бы, заговорщиками сделано все, чтобы получить это вожделенное мнение народа, пережить ту же сцену коленопреклоненного рыдающего народа — они получают в ответ… молчание.
«Борис Годунов» — лишь фрагмент всем известной истории, когда каждый с самого начала понимает, что стоит за этим молчанием, какое же на самом деле сложилось мнение народа.
Но в сам заключительный момент общего молчания заговорщики осознают, что не получили даже той иллюзорной и кратковременной толики власти, которую имел Борис Годунов где-то в передних рядах рыдающей толпы. До задних рядов еще не дошла волна восприятия ужаса происходящего, но и передние ряды в оторопи застыли перед вышедшими на всеобщее обозрение убийцами.
«Борис Годунов» Александра Сергеевича Пушкина – это самое важное произведение о власти и нравственности. Здесь и происходит водораздел в понимании действительной нравственности власти. Однофамилец автора Гаврила Пушкин, умный и коварный человек во всем, что не касается природы власти, при подходе к ней тут же проявляет свою безнравственную сущность. Отсутствие нравственного начала делает его беспомощным и даже наивным в самых сложных «многоходовках». Он не просто не понимает, но не допускает самой мысли, что, поднимаясь на вершину власти, виден насквозь в мельчайших движениях души – и юродивому на соборной паперти. Он не осознает, что мнением народа нельзя пренебрегать, он лишь готовится им заручиться.
Интересно, что Пушкин создал странное произведение, на котором заранее можно определить, насколько тот или иной человек готов к бремени власти, как правильно он воспринимаете нравственный постулат: действительно править можно, лишь будучи правым в глазах народа.
Это неудивительно, что после многих потрясений ХХ века многие читатели Пушкина уже не учитывают простую мысль о том, что лишь человек, утративший собственную нравственность, может навязывать нравственные выводы народа, а не руководствоваться ими в своем правлении, чтобы быть правым, не повторять ошибок Годунова.
Многие видят только внешнюю интригу, связанную с не легитимностью прихода к власти Бориса Годуна из-за гипотетического убийства царевича Дмитрия. Кстати, ряд серьезных исторических исследований свидетельствует о том, что царевич Дмитрий, будучи не совсем нормальным отроком, в игре случайно поранил сам себя ножиком и истек кровью. Эти свидетельства были известны и во времена Пушкина. Зная, насколько тщательно Александр Сергеевич работал с «исторической основой», сложно допустить, будто эти сведения были ему неизвестны. Слух о том, что Дмитрий был убит по приказу Бориса Годунова, используется им как черта изначально безнравственного подхода Годунова к власти. А раскрывается эта черта в сцене восшествия на престол. Борис Годунов уже внутренне презрел мнение народа, поэтому неважно, что же стояло за его грехопадением.
Это действительно не столь важно, как кажется, поскольку… все равно приведет человека к полному нравственному разложению. Гаврила Пушкин на момент заговора с Басмановым – никакого убийства не совершал. Но нравственное падение неминуемо ведет его уже в собственной «логике развития сюжета» и через клятвопреступление, предательство и убийства.
Начало ХХ века показало глубину порочности и безнравственности отношения к власти, которую берут, прикрываясь «счастьем народа», «мнением народа», «интересами народа», навязывая народу идеологию – заведомо готовый нравственный выбор. Неслучайно это происходит на фоне гуманитарной катастрофы, когда народ искусственно делится на классы, поскольку новые «лжедмитрии» не способны управлять государством в целом, с пользой для всего народа, с учетом сложного комплекса интересов всех слоев общества.
Разделение общества на некие искусственные «классы», национальные группы, социальные или профессиональные сообщества – всегда выявляют отсутствие комплексного, то есть по-настоящему государственного подхода, действительно отвечающего мнению народа.
В ущербном подходе к «формированию общественного мнения» особое место уделяется искусству, прежде всего, эпической форме литературных произведений. И здесь уже отходят в прошлое споры о том, что подобные произведения о власти — создаются потомками, спустя хотя бы «прошло сто лет», как в «Медном всаднике». Эпическое произведение с нравственной оценкой человека, от которого зависели судьбы страны и подданных, должно создаваться в исторической ретроспективе, когда уже выявились все положительные и отрицательные последствия принятых героем государственных решений. Они могут оставаться за рамками самого произведения, но о них уже знают все его читатели.
В этом плане особенно интересна поэма Владимира Маяковского59 «Владимир Ильич Ленин», созданная сразу же после смерти «вождя пролетариата» в 1925 году.
По форме и уровню поставленных задач поэма, безусловно, относится к жанру эпической поэзии. Но здесь мы видим своеобразный «прыжок во времени», Маяковский решил не принимать во внимание уже созданные непревзойденные образцы этого жанра – поэмы Александра Сергеевича Пушкина «Медный всадник» и «Борис Годунов», не замечая, что так и не смог подняться чуть выше Гаврилы Пушкина, уговаривавшего Басманова принять самозванца.
Маяковский попытался сделать то, что до него так и не удалось Михаилу Васильевичу Ломоносову в эпической поэме «Петр Великий». Маяковский «перепрыгнул» через все достижения ХIХ века – к спору ХVIII века о путях развития эпической поэмы, намеренно «не замечая», что этот спор был с блеском разрешен Пушкиным. Напомню, что Ломоносов считал, что героическая поэма должна правдиво повествовать о наиболее важном событии отечественной истории, в канонической форме, но с оригинальными приемами нового времени. Василий Кириллович Тредиаковский утверждал, что, чем отдаленнее эпоха, изображаемая в поэме, тем свободнее будет чувствовать себя поэт в творческом порыве, не сковывая свою фантазию… достоверностью. Тредиаковский считал, что все события реальной истории, прежде чем стать основанием эпопеи, должны откристаллизоваться в народном сознании, получить единую нравственную оценку, обрасти тем самым «мнением народа», без которого власть не имеет смысла. Его ошибка заключалась в том, что он взял слишком отдаленную по времени и географически эпоху, а по уровню художественных достоинств его произведение оказалось на порядок ниже произведений античных авторов.
Но само его стремление не участвовать в преждевременной канонизации еще не забытых реальных личностей, не навязывать эпосом нравственной оценки реальных событий –более соответствует самой этической природе такого рода произведений.
Поскольку ни Тредиаковский, ни Ломоносов, несмотря на свои поиски в жанре эпической поэзии, так и не снискали большого литературного успеха, решиться воспользоваться именно их опытом мог лишь человек… твердо знающий, что идеологическая ценность его произведения – перевесит литературные достоинства. Владимир Маяковский заведомо не ищет путь к сердцу читателя, он делает все, чтобы наиболее точно отвечать идеологии, подменившей собой мнение народа. В этом он абсолютно искренен со своим читателем, откровенно заявляя, что полностью воспринимает «классовое сознание» так… будто он представляет собой ЧК от эпической поэзии. Его лирический герой олицетворяет саму диктатуру пролетариата, атакующую общественный уклад.
Я буду писать / и про то / и про это,
но нынче / не время / любовных ляс.
Я / всю свою / звонкую силу поэта
тебе отдаю, / атакующий класс.
По примеру Ломоносова Маяковский пользуется новыми средствами, создавая эпическое полотно афористичными рублеными фразами, отдававшими особой непререкаемой категоричностью, не допускавшей ни возражения, ни размышления, ни собственной внутренней работы читателя. Владимир Владимирович пользовался инструментарием очень мощного поэтического дарования, но этот серьезный дар он использует, как… бандитский кистень, заявляя, будто приравнял перо к штыку. Хотя перо и берут в руки, чтобы штыком поменьше пользоваться, в особенности, в гражданском обществе.
По сути, своей поэмой он не только «формирует общественное сознание», он затыкает рот живым людям, переживавшим в это время достаточно тяжелые дни, но и всем, кто погиб в гражданской войне. А в таких война героев не бывает. К тому же все его читатели еще помнили недавние события, связанные с расколом общества, а покушение на Ленина свидетельствовало, что его деятельность воспринималась далеко неоднозначно. Маяковский написал эту поэму сразу после смерти Ленина как раз затем, чтобы его герой не получил со временем нравственную оценку всего общества, чтобы у потомков, к которым он обращается от себя лично, — осталась именно его оценка канонизированного героя. Что не только весьма далеко от нравственных задач произведения, но и заранее избавляет власть от необходимости учитывать мнение народа, хотя бы внешне соответствовать его будущей нравственной оценке.
 |
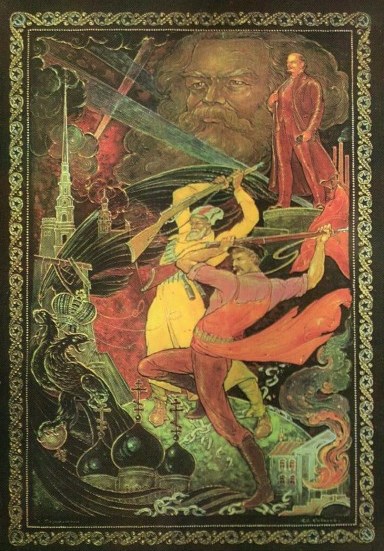 |
|
Ю. Виноградов «В.И. Ленин» (1967 г.) Село Палех Ивановской области |
А.В. Ковалёв. Иллюстрация к поэме В. Маяковского «Владимир Ильич Ленин» |
Наиболее интересно в этой поэме то, что Маяковский превосходит не только Тредиаковского, но даже античных авторов – в доказательстве почти божественного источника власти Ленина. В этом плане его произведение приближается не только к «Эпосу о Гильгамеше», но и ко всей агиографической литературе на примере «Жития святых». При этом он должен был создать образ воинствующего материалиста, богоборца. Эта сложная задача решается им на основе марксистко-ленинского учения, в котором заложена фатальная предопределенность о «исторической неизбежности» победы пролетариата. Раз социалистическая революция уже произошла, значит и человек, который руководил этим предопределенным событием, должен был появиться в предсказанное время, с полным набором необходимых для этой роли качеств. А это означает, что герой поэмы с момента ожидаемого рождения уже имеет некую важную миссию, то есть является мессией, — признает он свой божественный статус или стремится стать «ближе к народу». И простая логика в выборе изобразительных средств поэмы «Владимир Ильич Ленин» лучше всего доказывает, что любая идеология создается на базе религиозного догматизма и… мифотворчества.
Вначале поэмы отдельными эпизодами подаются народные ожидания «солнцеликого заступника». Появляющийся затем Ленин сопровождаем солнцем, которое в русском фольклоре солнце всегда включалось в символику Христа. Но, если взять эту его ассоциацию, следует отметить, что Христос пошел на распятие один, никого не призывая жертвовать собой ради него. И он никогда не призывал ни у кого отнимать достояние силой, рассчитывая на добровольное мнение, считая, что каждый может поделиться с ближним, но лишь добровольно.
Общество без частной собственности — это общество бесправных рабов, мнение которых учитывать уже необязательно, его можно навязать и куда менее затратным путем, без демонстрации показного благочестия при посещении монастырей и соборов, таким вот «эпическим произведением», когда его автор угодливо приравнивает перо к штыку. Но кого же при этом он намеревается вздернуть на свой штык?.. Читателя?..
И эти вопросы показывают, что автор поэмы сам плохо понимал происходящее, но считал возможным для себя канонизировать идеи, причем, в форме, отрицавшей любое обсуждение, — поскольку заранее не был способен ответить на вопросы читателя. А читатель ищет в эпическом произведении ответы, прежде всего, на «вечные вопросы», в данном случае сталкиваясь с тем, как каждая строчка воспринимает любое его сомнение «в штыки». Здесь нужна именно фанатическая, не рассуждающая вера.
Обозначенная в поэме ленинская функция заступника, мессии, сопровождаемого солнцем, сравнение «вожака пролетариев» с Христом, — превращает образ героя поэмы в полностью агиографический. Это приближает саму поэму к истокам этого жанра – к мифологии. При этом утилитарном подходе отрицается все творческое и этическое развитие человечества. Как до явления пророка или мессии люди «не знали истины», а с явлением эпического героя они ее узнали. Но если в эпосе о Гильгамеше все читатели будто видели глазами «все видавшего», давая собственную нравственную оценку увиденному, — то здесь сам герой является источником нравственности.
Поэма Маяковского написана в форме «Жития святых», чтобы доказать не только святость главного героя, но и его исключительное право на власть, легитимность и предопределенность его прихода к власти, чем отрицалась сама реальная история. Можно по всякому относиться к политическому мифотворчеству, уничтожающему нравственную основу мифа, ради которой люди раньше и слагали легенды. Но в данном случае миф слагался ради свежего трупа и прямо по свежим трупам гражданской войны, которая чуть не привела к развалу страны.
Сам Маяковский выступал с такими безразмерными нравственными оценками, что оправдывал и Брестский мир, который в этот момент вызывает особый стыд, ведь даже сам Маяковский называет это – «похабным Брестом». Конечно, многие постыдные вещи можно приписать «мудрости» и «прозорливости», но… из них и прорастают будущие войны.
Возьмем / передышку похабного Бреста.
Потеря – пространство, / выигрыш – время. –
Чтоб не передохнуть / нам / в передышку,
чтоб знал – / запомнят удары мои,
себя / не муштровкой – / сознанием вышколи,
стройся / рядами / Красной Армии.
Раньше главным героем эпоса становил правитель с не подвергаемым сомнению божественным происхождением, а нравственность его образа проявлялась в уходе от власти. Таким был миф о Гильгамеше. В мифе о Геракле уже встает вопрос о справедливости престолонаследия. Геракл, вынужденный подчиняться заурядному брату, занявшему престол из-за козней богини Геры, олицетворяет главное сомнение, связанное с институтом власти, остро стоявшем на протяжении всей истории человечества: насколько справедливо, когда человек заурядный – управляет людьми, многие из которых обладают куда более выдающими способностями? Как такой человек должен ограничить собственную власть, чтобы не нарушить ее нравственного смысла?
Маяковский решает этот вопрос на примитивном уровне лести прожженного царедворца, доказывая, что Ленин пришел к власти по простой причине – он заведомо был самым гениальным. При этом он с восточным витийством подчеркивает свою особую искренность, отмечая, как в детстве не выносил ложь.
Проживешь / свое / пока,
много всяких / грязных ракушек
налипает / нам / на бока.
А потом, / пробивши / бурю разозленную,
сядешь, / чтобы солнца близ,
и счищаешь / водоpocлeй / бороду зеленую
и медуз малиновую слизь.
Я / себя / под Лениным чищу,
чтобы плыть / в революцию дальше.
Я боюсь /этих строчек тыщи,
как мальчишкой / боишься фальши.
В его поэме Ленин — умнейший из всех умнейших, а сам лирический герой – самый правдивый из всех правдивых. Как доказательство этой правоты приводится реакция малограмотного представителя народа, который «понял все», как только услышал Ленина. Но Маяковский не может привести более существенного признания «гениальности» самого героя – от лица известных ученых, философов, промышленников или инженеров. То есть перед нами типичная ситуация из мифа о Геракле, когда заурядность, возвеличенная серостью, глумится над теми, кто «не понимает» собственной «миссии», вынуждая их совершать разного рода «подвиги». Пусть даже эти подвиги навсегда прославили имя Геракла, но в них присутствует некоторая ущербность: Геракл совершил их не из необъективной необходимости, не по собственному душевному порыву и нравственному выбору, а подневольно, по приказу измывавшегося над ним Еврисфея.
Миф о Геракле не теряет актуальности, поскольку постоянно возникает нравственный вопрос о том, насколько справедлива власть обычного человека, вознесшегося на вершину власти по воле богов?.. Геракл не пытается свергнуть Еврисфея, выражает одно существенное требование к преемственности власти: большинство людей вовсе не желает социальных потрясений, поэтому считает нравственнее придерживаться установленного порядка престолонаследия, что изначально нарушает герой поэмы Маяковского.
И хотя в поэме всячески подчеркивается, что Ленин — не христианский мессия, он выступает как мессия нового типа, ставший вождем народа в силу «исторической необходимости». Вместо «царственности и божественности» он наделен особыми личными и деловыми качествами, позволяющими ему успешно функционировать в роли современного властителя. Все теряются в догадках, что предпринять, но выходит Ленин – и решение тут же находится. А то, что находить выходы ему приходится из тех ситуаций, куда он сам всех загнал, — такого автор поэмы предпочитает не говорить. Ну, что это за «герой», если до него никаких особых трудностей не было, а при нем начались одни судорожные «преодоления»? Ведь до него в России народ сам кормился, а при нем вдруг трехразовое питание стало – «непреодолимым препятствием».
Даже Геракл решал проблемы, возникшие задолго до него. В случае с героем Маяковского все проблемы, ложившиеся тяжким грузом на все общество, возникли исключительно из-за его желания «выполнить свою миссию». Так столь ли предопреленной она была? Заметим, что Геракл решал эти проблемы самостоятельно, в этом и заключалась его геройская сущность. А Ленин… является «вожаком масс», которые вместо него решают проблемы.
Как святой Ленин являет нам в поэме несколько ипостасей, характерных для моделей поведения житийной литературы, представая поочередно: учителем, чудотворцем, мучеником. Однако натянутость этих моделей для «реальной основы образа», когда большинство живущих имеет о Ленине свое мнение, настолько велика, что провалы в восприятии цементируются химерическим образом партии.
Хочу / сиять заставить заново
Beличecтвeннeйшee слово / «ПАРТИЯ».
Eдиницa! / Кому она нужна?!
Голос единицы / тоньше писка.
Кто ее услышит? – / Разве жена!
И то / если не на базаре, / а близко.
Партия – / это / единый ураган,
из голосов cnpeccoвaнный / тихих и тонких,
от него / лoпaются / yкpeплeния врага,
как в канонаду / от пушек / перепонки.
Конечно, никому больше не нужны цельные герои, без подпорки за спиной… некой разбойничьей ватаги. Против нее и пикать бессмысленно, там твой голосок никто и не услышит, ежели с чем не согласен.
Химера партии согласно канонам агиографической литература оказывается «земной супругой Ильича», «церковью», «его семейным телом, созданным им самим», «преемницей и воплощением вождя», в конечно счете — залогом его бессмертия.
Партия и Ленин – / близнецы-братья –
кто более / матери-истории ценен?
мы говорим Ленин, / подразумеваем – / партия,
мы говорим / партия, / подразумеваем – / Ленин.
В этой поэме мы, пожалуй, впервые сталкиваемся с извращенным соединением эпоса и агиографии. Это извращение не только в том, что исключительная сущность «и сына и отца революции», особая роль вожака масс, — с большой долей цинизма совмещается с человеческой простотой, человеческой душевностью, а главное – соборностью народного сознания, источника мнения народа.
Соборность, как заведомо религиозная черта народного сознания, в контексте русской культуры – подается одним из основных достоинств героя поэмы, решившего поделиться властью с единомышленниками, объединенными в партию. Но ведь такое уже было не раз, здесь ничего нового и «исторически предопределенного». Как раз создание такого «партийного окружения» отрицает соборность.
Извращение понятий этим не заканчивается. До Маяковского эпос использовался, чтобы в каждом пробудить такого героя, а в правителях – пробудить желание хоть в чем-то быть на них похожими. Здесь сразу говорится, что Ленин сам по себе лишен каких-либо недостатков, а все сделанное им – выше всякой человеческой критики. Но основой изучения жития святых и мифологического излучения исторических фактов, имевших место в недавней действительности, является не столько доказательством святости героев агиографии, сколько объяснением, каким образом они достигли просветления. Жития святых, как и эпическая поэма, обращаются к душе каждого, пытаясь пробудить нравственное начало.
В поэме «Владимир Ильич Ленин» на косвенных сопоставлениях главного героя с Христом – вообще перечеркиваются все прежние нравственные ориентиры, дается понятие о неком «коммунистическом святом», имя которого «каждый крестьянин//в сердце вписал любовней, чем в святцы».
Герой такого «идеологически правильного» эпического произведения создает проблемы и для читателя, хотя в самой поэме идет речь о том, что все проблемы нравственных исканий уже полностью им решены за читателя.В нем сосредоточены все надежды на будущее не только для конкретного человека, но и для всего человечества.
Однако именно эта «простота» и «универсальность» — более всего отталкивают читательское восприятие. Не все читается, что пишется. И новаторская по своей форме эпическая поэма, в которой была совершена титаническая попытка переосмыслить невиданную за всю историю российской государственности жестокость гражданской войны, — остается одним из самых нечитаемых произведений. И это, несмотря на то, что поэма долгое время являлась обязательным для изучения произведением школьной программы.
Здесь герой и после своей смерти продолжает создавать массу проблем. Мысленно встать на его место читатель не может, с «идейной» точки зрения это равносильно самой страшной ереси. Место читателя – в серой коленопреклоненной массе «пролетариев», поскольку достаточно опасно оказываться вне ее при воцарении «солнцеликого заступника». Но намного страшнее становится и заикнуться о собственном мнении, являющемся неотъемлемой частью «мнения народа».
Читать по теме:
- НРАВСТВЕННЫЕ КРИТЕРИИ АНАЛИЗА. Часть I
- НРАВСТВЕННЫЕ КРИТЕРИИ АНАЛИЗА. Часть II
- НРАВСТВЕННЫЕ КРИТЕРИИ АНАЛИЗА. Часть III
- НРАВСТВЕННЫЕ КРИТЕРИИ АНАЛИЗА. Часть IV