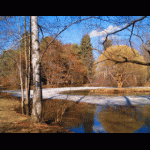Ирина Дедюхова
Парнасские сестры
16. Талия
Музы, молю — из толпы многогрешного града людского
Вечно влеките к священному свету скиталицу-душу!
Пусть тяжелит ее мед ваших сот, укрепляющий разум,
Душу, чья слава в одном — в чарующем ум благоречье.Прокл
Из дверей театрального подъезда выпорхнула молоденькая девушка в сером пуховичке и с хохотом подскочила к ждавшему ее солисту балета, директору дачного кооператива «Услада» Александру Игнатенко. Она кинулась ему на шею и он начал кружить ее, заражаясь ее брызжущим через край весельем.
За этой сценой с тоскливой завистью наблюдал Антон Борисович, которого все больше придавливали тяжкие заботы последних дней. Вроде бы все шло по плану, но почему-то у него не возникало, как прежде, полной уверенности, будто он держит в руках все нити тщательно проработанной шахматной партии. В ней Александру Игнатенко досталась роль невзрачной пешки, открывавшей дорогу к ладье противника – премьеру балета Николаю.
Девушка Александра Игнатенко была ученицей Николая, упорно не предававшей его, несмотря на долгие отеческие уговоры Антона Борисовича, наезды пресс-секретаря Никифоровой, прозрачные намеки замдиректора Мазепова.
Еще два года назад Антон Борисович понял бесполезность всех уговоров, потому что прочел рецензию на выступление ученицы Николая в статье «Нежный возраст, или Осторожно, звезда!» одного непредвзятого критика, известного своей точной аргументацией и бесспорными суждениями о балете.
«Единственная танцовщица, способная претендовать на роль воистину современной балерины, – Ангелина Воронова. В эпоху, когда преобладают деструктивные тенденции, исполнить волю богов – значит, следовать нисходящей. Стихия Ангелины – дионисийство, оргиастическая исступленность, языческие культы и варварские ритмы. Она пробуждает и пропускает сквозь себя такие энергии, что становится страшно: еще чуть-чуть – и девушку сметет, она не справится с теми силами, которые вызвала.
Ангелина олицетворяет самый архаичный и жестокий женский миф, она высвобождает хтонических чудовищ, но, как и подобает изначальной женщине, сама – ничто. Это не отрицательная категория, это потенция, способность быть оформленной и заполненной извне. Сама пустота спасает ее от разрушения. Глядя на девушку, ее победительную улыбку, невольно вспоминаешь слова Гумилева про «злое торжество» в женских глазах.Танцовщица богато одарена, но может стать главной проблемой русского балета. Не о характере речь, я о нем ничего не знаю, речь о хаосе.
Не сомневаюсь, что девушка будет танцевать много и в главных партиях. Беда в том, что, следуя своему предначертанию, она может разрушить любой спектакль, тогда как, сдерживая себя, она лишится главного достоинства, окажется заменимой. Ее легко представить в балетах Начо Дуато или Мауро Бигонцетти, кровно связанных с дионисийской традицией Средиземноморья, и практически невозможно – в русской классике.
Отдаваясь хаосу, Ангелина завораживает и потрясает, исполняя экзерсис, обманывает ожидания. Лишенная онтологической сущности, она нуждается в хореографе, способном «оседлать тигра», ей необходим руководящий мужской принцип, иначе – саморазрушение. Или – уклонение от воли богов, измена себе и как итог – саморазрушение. Вариантов немного, и это трагично.Найдется такой мужчина – мы увидим уникальную для нашего балета звезду. Не сыщется – история не простит нынешнего худрука балета: он нашел драгоценность, но не смог ее конвертировать в знаки вечного».
Антон Борисович уже знал, какой сущностью может быть заполнен этот «хаос», гибким плющом льнувший к Николаю, которому он под любыми предлогами избегал показываться на глаза. Критик искренне поддерживал легенду, которую Антон Борисович проработал вместе с Мылиным несколько лет назад, когда тому пришлось стать художественным руководителем театра, куда более низкого ранга, чем главный театр страны. Он «запустил в народ» красивую сказку, будто Гелю «открыл» именно Мылин, а потом сделал все для переезда в столицу неблагодарной начинающей балерины. На самом деле эта история балетной Золушки была куда более прозаичной.
Однажды Даша рассказала отцу, что премьер балета Николай вместе с главной их примой, женой бывшего директора театра, открыли на конкурсе молодых артистов балета удивительную девушку, которую называли «солнечным зайчиком». Девушка обучалась в каком-то провинциальном училище, и все члены жюри конкурса соображали вслух, как перевести будущую балетную звезду в Москву. Они уже оповестили администрацию театра и дирекцию хореографического училища, дело оставалось за малым.
Через два года девушка должна была окончательно перейти в театр и с легкостью «отбить» все главные партии, блистая на сцене всеми гранями своего удивительного дарования. И тогда Даша, только-только начавшая завоевывать в театре крепкие профессиональные позиции после изгнания балерины Владимирской, — окончательно опустилась бы до «вечной корды», так никогда и не увидев своего имени на афишах.
Антон Борисович, решивший помочь дочери, откуда-то знал, что за девушкой давно следили внимательные светло-голубые глаза того, кого он про себя называл странным именем «Холодец». Впрочем, и сам он мог видеть отдельными панорамами, соединяемые им с безупречной логикой шахматиста, картины недавнего прошлого победительницы международного конкурса артистов балета.
Перед ним, один за другим, разворачивались яркие снимки, на которых пожилая женщина, бывшая балерина, выходила из своего дома, направляясь в хореографическое училище на урок, где ее ждала юная Ангелина. Пожилая дама улыбалась про себя, предвкушая очередное занятие с девушкой, класс с которой стал для нее на закате жизни настоящим праздником.
Вот женщина делала шаг к пешеходному переходу, еще не видя, как из-за поворота прямо на нее несется на полной скорости огромный КамАЗ…
Потом Антон Борисович видел Ангелину, безутешно плакавшую на похоронах старой балерины. А затем взгляд его перемещался в просторный кабинет директрисы хореографического училища. Ангелина с осунувшимся личиком безучастно слушала цветущую молодую особу в директорском кресле, просившую у кого-то по телефону деньги на свою триумфальную поездку на конкурс молодых исполнителей со своей «новой феноменальной ученицей».
Он вспомнил, как ходил к зятю и убеждал его перехватить девчонку из-под носа у Николая, хотя знал, что зять непременно увлечется молоденькой танцовщицей. На «молодежную программу» своего театра Мылин перевез девушку с матерью в Москву летом, пока все члены жюри были в отпусках или на гастролях. Матери Ангелины он объяснил, что срочность переезда связана с началом учебного года. Квартиру им предоставил театр, где он работал худруком балета, а хореографическое училище выделило Ангелине стипендию, как победительнице международного конкурса. Мать девушки с большим трудом удалось устроить на работу.
Саму девушку Мылин обязал выступать примой в спектаклях его театра, хотя она, будучи студенткой училища, не имела права выходить на сцену в основном составе, а тем более в главных партиях. Поэтому заработанные Гелей средства Мылин беззастенчиво распределял между своими фаворитами. По этой причине денег в маленькой семье Гели практически не было, поэтому зять предложил ей покровительство и содержание, от чего маленькая строптивица категорически отказалась, впервые проявив свою «неблагодарность», в которой ее упрекали во многих статьях, все чаще отмечавших новую балетную звезду столичной сцены.
Отказ Гели от ухаживаний зятя, как ни странно, раздосадовал и самого Антона Борисовича. Хотя многое в жизни зятя его откровенно отталкивало, особенно его огромный портрет, который Мылин непременно вывешивал на стену каждой гримерки или кабинета, которые ему доводилось занимать. На нем зять снялся полностью обнаженным виде, а его мужское достоинство было стыдливо прикрыто паспарту с программкой главного театра страны.
 Неожиданно для себя, Антон Борисович впервые искренне пожелал, чтобы зять завел себе не какую-то очередную молоденькую любовницу на стороне, а развратил именно эту легонькую девочку с глазами, искрившимися внутренней гармонией. Он не понимал, почему ему так важно, чтобы Геля, как многие балерины до нее, как и его бедная Даша, — прошла все этапы эгоистичной страсти Мылина.
Неожиданно для себя, Антон Борисович впервые искренне пожелал, чтобы зять завел себе не какую-то очередную молоденькую любовницу на стороне, а развратил именно эту легонькую девочку с глазами, искрившимися внутренней гармонией. Он не понимал, почему ему так важно, чтобы Геля, как многие балерины до нее, как и его бедная Даша, — прошла все этапы эгоистичной страсти Мылина.
Но Геля не только прервала все личные контакты с Мылиным, сведя общение с ним к отрывистым фразам «да» и «нет», но после окончания училища, получив приглашение в главный театр страны, тут же напросилась в класс премьера балета Николая.
Для Антона Борисовича не стал секретом и ее роман с солистом балета Александром Игнатенко. В кратких, ярких и волнующих картинах, будто освещаемых вспышками молнии перед надвигавшейся бурей, он с необъяснимым ревностным чувством наблюдал за рождением их любви. Сознание услужливо рисовало ему тихую московскую улочку за театром, где по проезжей части летел на своем мотоцикле Игнатенко. Внезапно его мотоцикл резко разворачивался и чуть не опрокидывался возле безмятежно идущей по тротуару Гели.
— Д-девушка, хотите, я вас подвезу? – заикаясь, робко спрашивал девушку известный солист балета главного театра страны, только что прославившийся исполнением партии царя Ивана Грозного. А она, смеясь, отвечала ему: «Катись, куда катился, дурак!» Они начинали смеяться, а Антону Борисовичу почему-то хотелось плакать от нестерпимой жалости к самому себе.
От других совместных сцен с этой парочкой у Антона Борисовича иногда появлялось на лице что-то вроде улыбки. И, глядя на двух обнимающихся, абсолютно счастливых молодых людей, он без сожаления отдал бы половину своей жизни, если на месте Гели оказалась его Дашенька, а на месте практически нищего скандалиста Игнатенко – Мылин.
Если бы его Дашенька не бегала за снисходительно позволявшим ей ухаживать за собой самовлюбленным Нарциссом-Мылиным… Хотя ни на минуту он не представлял в качестве зятя – честного до крайнего идиотизма Игнатенко, постоянно устраивавшего разборки на профсоюзной почве с руководством театра.
Покрутив в руках шахматную фигурку коня, которого всегда называл «троянским» и перевозил за собой как талисман в своей предпринимательской деятельности, Антон Борисович вызвал к себе единственного надежного человека из числа молодых «крысюков» по фамилии Загоруйко. Еще ничего не имея в виду, он попросил Загоруйко, длительное время работавшего с ним «контактером» на растаможке, войти в ближний круг Игнатенко.
По легенде Загоруйко имел дочку, которую хотел страстно устроить в балет, поэтому сам стремился навязаться с любыми контактами к солистам балетной труппы. Он предлагал свои услуги в качестве сторожа кооператива «Услада», председателем которого был Александр Игнатенко. С подозрительной готовностью хватался за любую случайную работу на участках, объясняя, что все делает для дочери, мечтающей о карьере артистки балета. Мол, ему нужны знакомства «в мире балета», чтобы помочь дочке с протекцией.
И когда Игнатенко случайно заикнулся об аренде помещения неподалеку от «Услады», чтобы открыть там салон красоты, Загоруйко тут же вызвался ему помочь, заверив, будто у него есть на примете несколько вариантов, «идеально подходящих» для будущего салона. Он пригласил своего друга-водилу на машине, чтобы показать танцору эти помещения, находившиеся на приличном расстоянии друг от друга.
 Пока они ездили с места на место, Игнатенко рассказал о тяжелой доле артистов балета, чтобы Загоруйко не обольщался, а несколько раз подумал, прежде чем «губить будущее ребенка», отдавая дочку в балет. О себе он сообщил, что в театре его постоянно лишают спектаклей, поэтому он ищет любую возможность заработка. Почти вся его театральная зарплата уходит на алименты семье, из которой он ушел несколько лет назад. А сейчас он полюбил необыкновенную девушку, и вынужден жить на ее нищенский заработок в театре и то, что могут выделить его малообеспеченные родители-пенсионеры. Квартиру, которую он получил в театре и расположенную в том же доме, где находилась квартира Мылина, — его родители сдают какой-то женщине из-за постоянной нехватки денег. Поэтому он не может даже сделать предложение своей возлюбленной, так как они постоянно снимают с ней какие-то страшные квартиры на окраине, переезжая с места на место. В один из таких переездов ему и пришла в голову светлая идея, будто ему будет намного проще заработать за пределами МКАД, раз уж он постоянно вынужден ездить в этот район по делам руководимого им кооператива.
Пока они ездили с места на место, Игнатенко рассказал о тяжелой доле артистов балета, чтобы Загоруйко не обольщался, а несколько раз подумал, прежде чем «губить будущее ребенка», отдавая дочку в балет. О себе он сообщил, что в театре его постоянно лишают спектаклей, поэтому он ищет любую возможность заработка. Почти вся его театральная зарплата уходит на алименты семье, из которой он ушел несколько лет назад. А сейчас он полюбил необыкновенную девушку, и вынужден жить на ее нищенский заработок в театре и то, что могут выделить его малообеспеченные родители-пенсионеры. Квартиру, которую он получил в театре и расположенную в том же доме, где находилась квартира Мылина, — его родители сдают какой-то женщине из-за постоянной нехватки денег. Поэтому он не может даже сделать предложение своей возлюбленной, так как они постоянно снимают с ней какие-то страшные квартиры на окраине, переезжая с места на место. В один из таких переездов ему и пришла в голову светлая идея, будто ему будет намного проще заработать за пределами МКАД, раз уж он постоянно вынужден ездить в этот район по делам руководимого им кооператива.
Неудивительно, что все предложенные Загоруйко помещения Игнатенко откровенно не понравились. Однако в этих совместных разъездах Загоруйко сумел завязать с ним почти близкое знакомство. Они обменялись номерами мобильных телефонов, а Загоруйко настойчиво просил Игнатенко давать ему случайные заработки в кооперативе, уверяя, что не имеет постоянной работы и очень нуждается в деньгах.
Погруженный в свои заботы Игнатенко не задумывался, почему его новый знакомый так часто бывает в Москве «наездами». Но каждый раз, когда тот отзванивался, он давал Загоруйко какое-нибудь поручение по оформлению документов дачного некоммерческого партнерства «Услада», когда ему самому было некогда ехать в область и терять время в бесконечных очередях. Эти услуги Загоруйко оказывал Александру бесплатно, взяв с Александра обещание, что как только все документы на «Усладу» будут оформлены, тот поможет получить ему работу электромонтера дачного кооператива. Постепенно танцор окончательно расположился к такому открытому и отзывчивому случайному знакомому, бескорыстно работавшему «на будущее», с готовностью подписывавшему в районе бумаги на подключение кооператива к электроэнергии.
В задушевных беседах Игнатенко иногда делился о своих постоянных конфликтах с худруком балета Мылиным, решившим совместить эту административную должность с постом председателя профкома, чтобы «дорваться до кассы». Артисты несколько раз бесплатно выезжали на гастроли, чтобы собрать средства на подключение «Услады» к воде и электроэнергии, подвести дороги. И если Игнатенко работал бесплатно, то Мылин сделал себе в качестве председателя профкома солидный оклад. И деньги, предназначенные на общие нужды дачного кооператива, расходовались им с необычайной легкостью на глазах руководимого им коллектива.
 Однажды Загоруйко «по-простому» поинтересовался у Игнатенко, взбешенного очередной выходкой Мылина, предварительно включив специально переданный Антоном Борисовичем маленький диктофон: «Сколько можно это терпеть? Он же все ваши деньги так потратит! Ну, хочешь, я его грохну?» Но, к большому разочарованию Антона Борисовича, Игнатенко резко отшатнулся от услужливого нового знакомого, ответив категорическим отказом.
Однажды Загоруйко «по-простому» поинтересовался у Игнатенко, взбешенного очередной выходкой Мылина, предварительно включив специально переданный Антоном Борисовичем маленький диктофон: «Сколько можно это терпеть? Он же все ваши деньги так потратит! Ну, хочешь, я его грохну?» Но, к большому разочарованию Антона Борисовича, Игнатенко резко отшатнулся от услужливого нового знакомого, ответив категорическим отказом.
С осени Загоруйко все чаще приезжал на машине своего друга из области по каким-то своим делам, неизменно забегая в театр навестить «своего дорогого друга Сашу». Он подвозил Игнатенко до нового места жительства, подозрительно хорошо ориентируясь в Москве. И в ноябре, сразу после публикации письма деятелей искусств в защиту премьера балета Николая, к которому Игнатенко относился почти благоговейно, Загоруйко прямо при своем друге-водителе опять завел старую песню: «Давай, я его грохну!» С непонятной горячностью он «наезжал» на ошарашенного Игнатенко, мол, сколько можно терпеть эти издевательства от Мылина, что это «не совсем по-мужски».
— Да что ты заладил одно и то же? – удивился Игнатенко. – Что это у тебя за мысли в голову приходят? Как это можно запросто заявить о незнакомом тебе человеке: «Давай его грохнем!»? У меня, конечно, накопилась масса отрицательных эмоций к Мылину по поводу его действий, на которые администрация нашего театра не обращает никакого внимания. Но… убить… даже не знаю, что тебе сказать! Если уж говорить по-мужски, то можно ударить. Я бы понял, если бы ты сказал: «Давай его просто побьем!»
— Ну, давай я его побью! – с готовностью предложил Загоруйко. – Тебе же бить его нельзя, тебя могут из театра выгнать! У меня же нет сил смотреть, как ты мучаешься!
— Ну, и за сколько ты готов это сделать? – в шутку спросил его Игнатенко.
— Для тебя, Саша, я на все готов! – серьезно ответил Загоруйко. — А этого гада отмудохаю за столько, сколько сам дашь!
У Игнатенко чуть глаза не вылезли из орбит, когда Загоруйко с другом просто сказали ему, что они неоднократно приезжали к дому Мылина, чтобы попробовать его «убедить» отказаться от роли профсоюзного босса и дать Александру нормально работать в «Усладе». Но нападать на него не стали, поскольку вокруг было много людей.
* * *
Перед Новым годом Александр был вынужден занять на праздники 30 тысяч рублей у своего близкого друга Славика, солиста балета из второго состава, недавно вышедшего из первого ряда кордебалета. Тот еще не имел семьи, ему помогали родители, да и за все спектакли ему заплатили полностью, в отличие от самого Игнатенко.
— Саш, ну как так? – сочувственно сказал ему Славик. – Сколько можно? Когда Гордей своим кооперативом командовал, так как сыр в масле катался! А сейчас смылся с деньгами, и никому до него дела нет. А ты столько работаешь, балет такой вытащил первым составом, с кооперативом у тебя все по-честному, а на Новый год деньги занимаешь… Ты не подумай!..
— Спасибо тебе, Славка, — с горечью ответил Александр. – Хоть ты меня понимаешь. Мне Гелю жалко, что связалась с таким уродом, как я. Хотел ей подарок купить. Ей тоже заплатили девять тысяч, а нам надо четырнадцать тысяч за квартиру отдавать…
— Как девять тысяч? – отшатнулся от него Славик. – Этого же быть не может! Она же везде шла первым составом! На нее билеты по полтиннику у барыг, а нормальные места официально по тысяче баксов… Этого просто не может быть.
— Может, — тяжело вздохнул Александр. – Ее мама попросила билет, раз Геля 31 декабря в «Щелкунчике» танцует. Мы думали, что все вместе посмотрим на нашу красавицу, потом успеем домой добежать и Новый год встретить. Мне предложили совершенно издевательски выкупить билеты за сто двадцать тысяч рублей со скидкой. Мы думали, хоть Геле за выход хотя десять тысяч доплатят… Нет, еще вычли за отгулы, у нее нога болела. Так что… девять тысяч! Хоть сразу вешайся, хоть частями стреляйся.
— Так ведь это же… отгулы! – растерянно сказал Славик. – Отгулы все оплачивают из президентского гранта, из Попечительского фонда.
— Ты ведь сам знаешь, что это Мылин подписывает, — пожал плечами Александр. – А он ей ничего не дает. Иногда подписывает, когда Николай Илларионович приходит за Гелю просить. У них много лет одна гримерная была, он про Мылина много знает. И про неудавшийся его роман с Гелей тоже знает. Но каждый раз его просить не станешь, все же он… звезда!
— Сашка, держись! – горячо зашептал ему Славик. – Держись, сколько можешь! Только не сдавайся!
— Ладно, спасибо, друг! – растроганно ответил Александр.
Мать просила Александра перед Новым годом заехать на его квартиру, которую она крайне нерасчетливо сдавала своей знакомой, с которой они когда-то вместе работали в больнице. Понятно, что даме было негде жить, в ее однокомнатной квартире жила дочь с двумя внуками. Но сдавать квартиру за семь тысяч в месяц, когда они с Гелей снимали какие-то жуткие комнаты на окраине, было в их положении крайне неразумно. Его квартира стоила гораздо больше.
Он согласился съездить за деньгами, чтобы еще раз попросить женщину освободить его квартиру.
— Слушайте, Маргарита Леонидовна! Эту квартиру я покупал сам через театр! И совершенно не хочу ее сдавать, у меня изменились обстоятельства, — сказал он полной женщине в неопрятном халате, загородившей ему проход.
Он не мог оттолкнуть ее, все же она была подругой его матери. А она совершенно не желала его пускать в собственную квартиру, из которой отвратительно пахло чем-то кислым.
— Не лезь сюда, Саша! Я заплатила твоей маме до марта! – повысив голос, заявила жилица.
 — Не надо говорить неправду, Маргарита Леонидовна! – разозлился Александр. – Меня мама попросила за деньгами заехать, вы за два месяца ей не заплатили. Вас что, с полицией выселять? Ведь здесь даже вещи мои лежат, а я в свою квартиру не могу зайти! Я же вас осенью предупреждал по-русски, что к Новому году вы должны освободить квартиру!
— Не надо говорить неправду, Маргарита Леонидовна! – разозлился Александр. – Меня мама попросила за деньгами заехать, вы за два месяца ей не заплатили. Вас что, с полицией выселять? Ведь здесь даже вещи мои лежат, а я в свою квартиру не могу зайти! Я же вас осенью предупреждал по-русски, что к Новому году вы должны освободить квартиру!
— Ах, он еще мне полицией грозит, щенок! – каким-то незнакомым голосом заорала жилица. – Ты у меня сам на днях взял 50 тысяч рублей до марта! До марта! Так своей мамочке и передай!
Александр отшатнулся, будто впервые увидел перед собой подругу матери, которую знал с детства.
— До марта, так до марта, — тихо сказал он, стараясь не глядеть в ее искаженное злобой и ненавистью лицо. – Но чтобы в марте вас здесь больше не было!
— Посмотрим еще, кого в марте не будет, — зашлась она жутким смехом, больше похожим на птичий клекот.
Он даже обрадовался, увидев у подъезда вездесущего Загоруйко, притоптывавшего снег на крепком морозце возле знакомой машины. Впервые за много лет в Москве наступал Новый год без слякоти и грязного асфальта, а с белым снегом, превратившим серый город в снежную сказку.
— Так и думал, что здесь тебя встречу! – обрадовался ему Загоруйко. – Мы тут, случайно крутились, по своим делам. Тебя подбросить?
Александр сел на переднее сидение, чувствуя, что сил совсем не осталось. Он уже не удивился, когда Загоруйко с каким-то непонятным нажимом попросил «как бы взаймы», многозначительно намекнув «ну, ты ведь понимаешь?».
Александр и сам понимал, что давно задолжал Загоруйко, оказавшего ему немало услуг. Из тридцати тысяч, взятых в долг у Славика, он отсчитал в кармане десять тысяч рублей и передал деньги с переднего сидения – на заднее, где устроился Загоруйко, схвативший деньги так, чтобы водитель не смог видеть, сколько денег ему дал Игнатенко. Александр понял, что Загоруйко пытается как-то «добавить лишний вес» ему в глазах водителя, потому что тот, с явным расчетом на водилу, заявил, что скоро «отработает эти пятьдесят тысяч». Александр лишь безвольно пожал плечами, а Загоруйко громко захохотал, чтобы он не вздумал поправлять.
Новогодние праздники с Гелей прошли на редкость тихо и спокойно. Они много гуляли, играли в снежки и мечтали, что когда-нибудь поселятся в доме в его кооперативе, будут слушать музыку и ждать друзей к ужину. Геле очень хотелось угостить всех ужином, особенно своего педагога Николая Илларионовича, приславшего им на Новый год из ресторана завернутые в фольгу, еще теплые бараньи ребрышки, на которые Сашка набросился так, как будто не ел ничего вкуснее. Потом им все стали звонить и поздравлять с Новым годом, приглашая в гости на ужин.
Геля отметила в своем календарике, куда их пригласили на ужин. А когда они с Сашей посмотрели потом в ее календарь, то оказалось, что все праздничные дни у них забиты дружескими ужинами.
— Цирковые своих не бросают, — хмыкнул Саша. – Точно Славка проговорился, что я деньги занимал. Вот они и решили нас подкормить!
— Так это же здорово, Саша! – обрадовалась Геля, уже начинавшая переживать, что денег им может на все праздники не хватить. Ведь Саше предстояло выкупить билеты в цирк и на елку для похода со своим мальчиком от первого брака.
А потом еще им позвонил знакомый Николая Илларионовича и попросил выступить на двух детских утренниках и отобедать с родителями детей. И Геля с радостным визгом запрыгала вокруг елки: «Сашка! Нам еще денег дадут! Мы выживем, Саша! Мы даже потом жить останемся!»
Но сюрпризы не закончились, потому что перед самым Новым годом к ним опять постучался посыльный с восточными сладостями и подарком для Гели от Николая Илларионовича.
Посмотрев на что-то твердое, упакованное в яркую бумагу с маленькими нарисованными Санта Клаусами с бутылочками кока-колы, Александр с некоторой досадой сказал: «Большая книга по истории искусства! Поздравляю!»
— Нет, Саша, — тихо ответила Геля, открывая большую коробку. – Здесь часы… нам. И записка: «Пусть время всегда работает на вас! С Новым годом!»
 Александр благоговейно взял в руки небольшие каминные часы с боем, загадав, чтобы когда-нибудь они действительно украсили каминную полку в их доме. Николай Илларионович был, как всегда на высоте, даже с этим неожиданным и явно импровизированным подарком.
Александр благоговейно взял в руки небольшие каминные часы с боем, загадав, чтобы когда-нибудь они действительно украсили каминную полку в их доме. Николай Илларионович был, как всегда на высоте, даже с этим неожиданным и явно импровизированным подарком.
Уже за столом Геля подняла фужер с шампанским и сказала, что очень хочет когда-нибудь увидеть за столом всех-всех, но больше всего хочет отблагодарить ужином Николая Илларионовича, их доброго Ангела и Учителя с большой буквы.
Часы начали отбивать полночь, и Саша, глядя в раскрасневшиеся лица Гели и ее мамы, почувствовал себя абсолютно счастливым.
* * *
Новогодние праздники промелькнули так замечательно, так чудесно, что в театр они отправились рука об руку, с каким-то непонятным обоим душевным подъемом. Новости ожидали их уже на входе. Сухонькая интеллигентная старушка с подведенными карандашом губами, которую в театре все звали Глашенькой, свистящим шепотом им сообщила, что Мылин пришел с праздников побитым, «с фиолетовой сливой под глазом». Зато его фаворитка Каролина Спешнева явилась в новой соболиной шубке и бриллиантовым перстнем. В раздевалке сказала, что выходит замуж за Мылина. тот ее уже и Одеттой-Одиллией в первый состав «Лебединого озера» поставил, а Николай Илларионович в бешенстве. Уже заявил, что впервые увидел в театре, чтобы исполнительница роли Одетты-Одиллии делала по одному пируэту, зато художественный руководитель балета регулярно подвозит ее домой после работы, дарит шубки и приходит после праздников с синяками под глазами…
Услышав про шубку Каролины, Геля быстро сняла свой серый пуховик, виновато взглянув на Александра. Но тот не смотрел на ее пуховик, видя, как тесть худрука Антон Борисович делает ему какие-то знаки из-за колонны.
— Здравствуйте, Антон Борисович, — подошел он к руководителю продюсерского центра «Классические традиции».
Ему бы нисколько не помешал дополнительный заработок, для артистов после Нового года наступал «мертвый сезон». Поэтому он надеялся, что Антон Борисович предложит какое-то участие в своих «сборных солянках», потому что надо было как-то дожить до февральских и мартовских праздников.
— Саша, обращаюсь к тебе, как к неформальному профсоюзному лидеру, — загадочно начал Антон Борисович.
 — А-а, — разочарованно протянул Александр. – Вы извините, у меня с Мылиным и так много конфликтов, я не могу вмешивать в его отношения с вашей дочерью. Все мы, как говорится… У меня тоже развод за спиной. Поэтому не мне, как говорится…
— А-а, — разочарованно протянул Александр. – Вы извините, у меня с Мылиным и так много конфликтов, я не могу вмешивать в его отношения с вашей дочерью. Все мы, как говорится… У меня тоже развод за спиной. Поэтому не мне, как говорится…
— Ты не понял! – с досадой перебил его Антон Борисович. – Я тебя ни о чем таком не прошу, сами пускай разбираются. Тут такое дело… Шубка у Каролины, кольцо и отдых в отеле для vip-персон на все праздники – это из кассы вашего профсоюза или кооператива, тебе лучше знать.
— То есть как это? – спросил Александр, чувствуя, как к горлу подкатывает настоящее бешенство. – Слушайте, мы эти деньги собирали на целевые взносы! Мы бесплатно на гастроли ездили… Ваш зять вообще из другого театра пришел и сам себя назначил профсоюзным лидером!
— Да, я мог бы тебе и не говорить, конечно, — расстроенным тоном ответил Антон Борисович. – Но тебе надо этот вопрос как-то срочно решать. Именно потому, что он из семьи уходит, он всю вашу кассу пустит по ветру.
…И сразу после праздников у Александра началась настоящая горячка. Он готовил заседание профсоюзного актива, которое должно было прекратить полномочия Мылина как профсоюзного лидера. С членами кооператива «Услада» он согласовал текст претензии и требование немедленно отчитаться о потраченных средствах. Но Мылин ходил в огромных черных очках, стараясь ни с кем не вступать в разговоры. В пятницу он молниеносно исчез, в бесплодных попытках застать его в театре прошел понедельник, вторник…
Вечером в среду, выйдя из театра, Александр увидел Загоруйко, притаптывавшего снег у машины. Александр отправился к нему с экземпляром петиции.
— Ты не мог бы передать ее Мылину, он живет в том же доме, где ты меня перед Новым годом встретил! – тут же перешел он к делу. – Речь идет о нашей профсоюзной кассе! Его тесть сказал, что он тратит наши деньги на шубки-кольца любовнице. Каждый вечер с ней ездит, на работе его застать не могу! Завтра у него юбилей какой-то в драматическом театре… Просто не знаю, что делать! Сегодня среда, завтра юбилей, а в пятницу он от жены с этой Каролиной на все выходные за город сдернет, опять тысяч сто как не бывало!
— Это, конечно, форменное безобразие, — прогудел Загоруйко. – Нам так нужен этот подряд на электропроводку! Ведь и бумаги уже подписаны! Но как я ему эту петицию вручу?
— Он от меня бегает, у меня не возьмет, — в отчаянии ответил Александр. – А где он сейчас – понятия не имею! Телефон у него с Нового года недоступен… Домой его сегодня точно не ждут, его жена плакала в раздевалке. А завтра он точно с юбилея приедет домой, у младшего сына день рождения.
— Ладно, не расстраивайся так! – нашел выход Загоруйко. — Завтра я тогда опять кореша попрошу меня привезти из области, давай твою бумагу! Только извини, моему водителю надо будет заплатить!
— Сколько? – упавшим голосом спросил Александр.
 — Ну, тыщи три-то надо! – ответил Загоруйко. – С учетом тех, что ты уже заплатил. И вот еще что… Связь надо будет держать. Незачем тебе светиться с симкой, выданной в театре. Я тут у цыган нам с тобой симки купил. Они ни на кого не зарегистрированы.
— Ну, тыщи три-то надо! – ответил Загоруйко. – С учетом тех, что ты уже заплатил. И вот еще что… Связь надо будет держать. Незачем тебе светиться с симкой, выданной в театре. Я тут у цыган нам с тобой симки купил. Они ни на кого не зарегистрированы.
— Зачем она мне? – подозрительно поинтересовался Александр.
— Ну, надо же как-то отслеживать передвижения объекта, — удивился Загоруйко. – А вдруг он с другой улицы выйдет. Бумагу-то ему ведь надо захерачить?
— Да, захерачить надо, — машинально ответил Игнатенко, погруженный в свои мысли.
Он взял у Загоруйко SIM-карту, почти не слушая, что тот говорит. В голове вертелось это его выражение «захерачить». Он думал, как быстро Мылин забыл, как сам был таким же артистом. Выбиться в худруки, чтоб обманывать в деньгах своих же товарищей… Неужели Мылин не понимал, насколько сложно им было собрать эти деньги, сколько надежд каждый связывал со своим домом в Подмосковье…
Сообщение Антона Борисовича уничтожило в нем остатки уважения к Мылину. Когда-то он считал его одним из лучших балетных премьеров. Но теперь для него больше не существовал человек, способный потратить деньги товарищей на какую-то ничтожную девицу, толком не умевшую держать спину.
Попрощавшись с Загоруйко, он быстро пошел по направлению к метро.
* * *
В четверг вечером Александр вместе с танцором Славиком и музыкантом Васильевым собрались поехать в дачный кооператив «Услада», чтобы поработать на строительстве бани на участке Васильева, обещавшего им со Славиком немного заплатить. В пятницу и выходные они были не заняты в театре, поэтому не хотели упускать короткий световой день.
Днем в театре Мылина не было, но Александр уже знал, что тот непременно будет на юбилее, а после вернется домой. Друзья понимали, что Александр не усидит три дня на строительстве бани в неизвестности, ему надо было перед отъездом точно знать, что их петицию Мылин все же получил.
Они сидели втроем в машине на парковке напротив театра, где проходил юбилей, дожидаясь выхода Мылина. По маленькому телевизору смотрели какой-то сериал с участием Певцова, периодически переставляли автомобиль, чтобы поймать устойчивый сигнал Интернета. Александр при этом напряженно следил за машиной Мылина, но тот все не появлялся. Было уже около половины одиннадцатого вечера, когда Васильев в раздражении заявил, что ночью они все рано никуда не поедут, а лучше на дачу отправятся с утра.
Понимая, что Мылин и на этот раз обвел их вокруг пальца, Александр позвонил Загоруйко и сказал, что время для профсоюзных петиций уже позднее, все отменяется, поэтому пусть тот едет домой, им ведь с товарищем еще надо до дома в область добираться.
Он уже собирался выйти из машины Васильева, как увидел, что Мылин, наконец, подошел вместе с Каролиной к своему автомобилю. Он тут же перезвонил Загоруйко и сообщил, что худрук через полчаса приедет домой. Тот ему на удивление спокойно ответил, что они – «никуда и не дергались», а решили, что лучше еще полчаса подождут, но петицию вручат именно сегодня.
— Саш, а ты вообще на что рассчитывал? – поинтересовался Славик у Игнатенко. – Ты чего нам сразу не сказал, что мы тут проторчим два часа, а потом вообще никуда не поедем?
— Слава, ты же знаешь, нам надо было вручить ему бумагу до того, как он наши последние деньги потратит, — объяснил Александр. – Какой тогда смысл в наших дачах вообще? Заработать он сейчас нам не дает. А если он с петицией тебя или меня увидит, то и разговаривать не станет. А так… может у Загоруйко получится ему бумагу захерачить. Но, честно, говоря, я рассчитывал, что он именно сегодня уйдет с юбилея пораньше, хоть Каролину домой не повезет… Все же у сына день рождения. Не в двенадцать же ночи отцу на день рождения приходить?
Славик и Васильев со вздохом согласились, что Сашка их не думал обманывать, просто он подумал о Мылине, как о порядочном человеке.
Минут через пятнадцать раздался звонок от Загоруйко. Слегка запыхавшись, он радостно сказал в трубку: «Все, захерачили! Ты три тысячи обещал! Встретимся у метро!»
Игнатенко занял у Славика три тысячи рублей под предлогом покупки курительной смеси, чтоб тот не подумал, будто он берет деньги на общественные нужды и возвращать не собирается. Он попрощался с друзьями и отправился к метро. Там он молча передал деньги Загоруйко, обратив внимание, что от него сильно пахло мочой.
Дома он решил лечь пораньше, чтоб с утра поехать с ребятами строить баню. Засыпая, он услышал телефонный разговор Гели с Николаем Илларионовичем, удивившись про себя, что ее педагог звонит среди ночи.
— Геля, что случилось? – сонным голосом спросил он Ангелину, молча сидевшую рядом, прижимая трубку к груди.
 — Николай Илларионович сказал, что сегодня вечером возле подъезда худрука Мылина облили кислотой. Теперь ему звонят со всего света… говорят, будто наша пресс-секретарь им сказала сразу ему звонить, — безжизненным голосом ответила Геля. – Он со мной попрощался на всякий случай… Директор и вся администрация заявили, что это все – «закономерный итог того беспредела, который создавался в первую очередь нашим прославленным премьером Николаем Илларионовичем». Он мне пресс-релиз зачитал, ему уже среди ночи передали. Про него теперь говорят, что он постоянно поливал грязью театр и его сотрудников, устраивал интриги и был уверен в собственной безнаказанности…
— Николай Илларионович сказал, что сегодня вечером возле подъезда худрука Мылина облили кислотой. Теперь ему звонят со всего света… говорят, будто наша пресс-секретарь им сказала сразу ему звонить, — безжизненным голосом ответила Геля. – Он со мной попрощался на всякий случай… Директор и вся администрация заявили, что это все – «закономерный итог того беспредела, который создавался в первую очередь нашим прославленным премьером Николаем Илларионовичем». Он мне пресс-релиз зачитал, ему уже среди ночи передали. Про него теперь говорят, что он постоянно поливал грязью театр и его сотрудников, устраивал интриги и был уверен в собственной безнаказанности…
Геля с рыданием упала лицом в подушку, а у Александра, догадавшегося, наконец, что имел в виду Загоруйко под этим словом, которое вертелось у него в голове, — все похолодело внутри. Сон прошел, он лежал, глядя в потолок, на котором вспыхивали отблески огней проезжавших по улице машин. Сообщение Гели уничтожило в нем остатки мыслей и чувств. Он просто лежал и повторял про себя одно слово: «Захерачить, захерачить, захерачить…»
* * *
А в голове Антона Борисовича крутилась другая фраза. Ему надо было взять себя в руки, от него постоянно требовались срочные решения, а в голове рефреном звучала фраза из детской книжки про Алису в стране чудес, которую он на днях читал внукам: «Они убивали Время, и Время на них обиделось!»
Возможно, цитата была неточной, но в его голове она звучала именно так. Чувствуя растущую тяжесть на плечах, он вдруг вспомнил, что на огурцовских ресурсах фирменная картинка была именно из «Алисы в Стране чудес». Новостная лента портала при блоге тут же отозвалась, назвав случай с нападением на худрука Мылина – «чудовищным» и «вандальным».
Странно, но особенно остро Антон Борисович почувствовал, что «Время на них обиделось», когда премьер Николай во всех интервью начал слово в слово повторять публикации ресурсов Каллиопы, словно выстраивая вокруг себя непробиваемую стену. И когда его лицо появлялось на экране с очередным сообщением, что случай с Мылиным, безусловно, «чудовищный и вандальный», Антону Борисовичу слышались за его спиной дальние разрывы артиллерийской канонады, будто кто-то прорывался с боями к ненавистному балеруну, взятому в плотное кольцо окружения.
Все пошло в осуществлении его плана совершенно не так, как он рассчитывал поминутно. У него постепенно складывалось четкое убеждение, будто подводят его не столько люди, сколько… само Время. Оно вдруг стало живым, несговорчивым и строптивым. С самого начала пошли какие-то мелкие недочеты – вначале на секунды, которые неминуемо вырастали в минуты, а после вдруг оборачивались часами.
В их план входило, что Мылин должен выступить на сцене театра, но первыми выпустили ветхих ветеранов, чтоб не померли раньше времени. А эти ветераны, дорвавшись до микрофонов, будто нарочно начали тянуть время. Мылин не мог уйти с юбилея, не отметившись на сцене. Выйдя к микрофону под слишком длительные аплодисменты, он вдруг растерялся, поскольку ведущий вечера назвал его «посланником Мельпомены». Речь зятю Антон Борисович написал еще до Нового года, но вдруг услышал, как тот, запинаясь, произносит какой-то чужой текст.
Зять вдруг начал говорить о роли искусства в жизни человека, в попытках каждого сохранить душу. Не слушающимся языком он выдавливал из себя странные фразы о тех, кто уже «променял свою душу на материальные блага, получив за нее все, что хотел». Вернее, эти люди думали, будто расплачиваются чужой душой, не понимая, что этого никому не дано, у всех имеется лишь один обол – только на себя. Хотя многим кажется, будто весь мир придуман только для них, они хотят весь мир заключить в пределах своей власти, сжать время. А искусство позволяет человеку сливаться с миром, чувствовать его совершенство. И настоящему творцу этого вполне достаточно. Тогда он понимает, что не убивает Время, а восстанавливает связь Времен, спасая души окружающих от леденящего холода страха. А в результате соприкосновения с настоящим искусством каждого охватывает желание сделать мир еще лучше, оставить в нем частичку себя.
Все это звучало достаточно банально, к тому же зять постоянно делал паузы, будто пытаясь вернуться к заученному тексту, но потом вновь возвращался к прерванной мысли. Однако в зале царила полная тишина, а как только он закончил, то «зал взорвался бурей аплодисментов», как часто писали критики по менее значимым поводам.
В результате на это выступление ушел час из того времени, которое Антон Борисович запланировал на операцию. И в самом выступлении он чувствовал какую-то скрытую угрозу, предупреждение. При каждом упоминании зятем о времени, у Антона Борисовича начало нестерпимо стягивать волосы на затылок.
Как только зять двинулся к выходу, к нему подошел режиссер театра, отмечавшего юбилей, и двадцать три минуты рассказывал о том глубоком впечатлении, которое он испытал, когда слушал его выступление. Только на юбилее он окончательно осознал то, что всегда чувствовал интуитивно, но не мог выразить с такой «афористичностью», как только сделал он со сцены.
И пока он это говорил, держа руки Мылина в своих сухоньких потных ладошках, из зала выскочила вездесущая Каролина Спешнева, получила свою новую шубку в гардеробе и с очаровательной улыбкой загородила зятю выход из театрального фойе.
В этот момент Время представилось Антону Борисовичу в виде нагло ухмыляющихся часиков, откровенно издевавшихся над ним и над всей безупречно выстроенной им шахматной партии. И впервые у него возникло острое желание бить и бить эти часики ногами, чтобы окончательно убить это ненавистное Время, решившее работать против него.
Шахматная фигурка зятя вдруг обрела свою волю, понимая, как долго после всей его запланированной операции он не сможет увидеть эту пешку Каролину. Вопреки их договоренности, он не только поехал ее провожать, намекая ей, что некоторое время они должны побыть в «вынужденной разлуке», но и чуть не прокололся перед этой пустышкой при расставании. С едва сдерживаемым рыданием в голосе Мылин уговаривал ошалевшую Каролину ничему не верить, что она может услышать о нем в ближайшие дни, а верить в их скорую пламенную встречу.
Длилось это прощание целых восемнадцать минут, поэтому при выезде на шоссе зять попал в небольшую пробку на двенадцать с половиной минут. В результате Антон Борисович получил два звонка. Вначале ему напомнили, что зять должен был явиться под камеры наблюдения самое позднее – еще двадцать минут назад! Ребята в отделении, ждавшие по договоренности сигнала с пульта – были, между прочим, не железные, а смена у них заканчивалась. Им уже несколько раз звонил и персонал горбольницы, который тоже не мог сидеть всю ночь в ожидании. Это уже начинало вызывать подозрения у всех непосвященных, а ведь всем свою долю поиметь хочется.
Второй звонок был еще хуже. Вопреки всем правилам и договоренностям позвонил Загоруйко.
— Антон Борисыч! Выручайте! – заорал он в трубку. – Мы уж тут на месте, Игнатенко я организовал ждать со свидетелями на автостоянке, все как договаривались. Они сейчас на стоянке напротив драматического театра сериал смотрят и за машиной Мылина следят.
— Ты зачем мне-то звонишь? – взбешенным тоном зашипел в трубку Антон Борисович. — Ты нас всех спалить хочешь?
— Да проблема у меня! – в отчаянии ответил Загоруйко. – Вы же потом все равно будете разговоры монтировать, вырежете кусок. Я ведь тоже не так просто звоню, все понимаю… Электролит я вчера во фляжку слил, водой развел, как вы говорили… а сейчас вспомнил, что дома фляжку-то оставил. Мы с Толиком пивную бутылку в мусорке нашли, головку срезали. Сейчас на минутку отлучимся! Толик предложил сгонять по-быстрому на заправку, купить там жидкость для аккумуляторов и минералку. Как-то надо выходить из положения!
— Вы что, совсем идиоты? – заорал Антон Борисович. – Он сейчас приедет уже! Раньше вы не могли вспомнить, что фляжку забыли? Стойте там, я сейчас сам подъеду!
— А откуда мы тогда возьмем… электролит? – тупо поинтересовался Загоруйко. – Вы же сказали, чтобы его не бить, что его в больнице будут ждать с химическим ожогом…
— Слушай, ты заткнешься или нет? Может тебя вообще заткнуть, чтобы не болтал лишнего? – сорвался Антон Борисович. – Моча – тоже электролит! Идите и поссыте с Толиком, раз такие идиоты!
— Честно говоря, мы уж так и сделали, Антон Борисович, — радостно затараторил Загоруйко. – А потом Толик говорит, что вы можете обидеться, если мы… совсем без электролита. Он говорит, все-таки же зять… неудобно как-то. Говорит, давай все же съездим на заправку…
В бешенстве Антон Борисович прервал звонок и начал быстро собираться к дому дочери. Когда он подъехал, то скорая и полиция были уже на месте, полицейские уже опрашивали свидетелей, из которых особо никто ничего не заметил.
Единственное, что его немного покоробило, что кто-то из исполнителей все же решил немного подстегнуть время, поэтому звонок на пульт поступил немного раньше, чем к месту преступления все же соизволил явиться его зятек с бурных прощаний с Каролиной. Но все же и самого пострадавшего успели до конца смены доставить в больницу, где ему немедленно натянули на лицо общую повязку, склеив ресницы какой-то гадостью.
 Из больницы позвонила расстроенная Даша, сообщив, что на Мылина напали, чем-то облили у подъезда. Она думала, что ничего серьезного, хотя он громко кричал: «Мое лицо! Что с моим лицом?» Потом начал кричать про глаза, вроде бы он никого не видит.
Из больницы позвонила расстроенная Даша, сообщив, что на Мылина напали, чем-то облили у подъезда. Она думала, что ничего серьезного, хотя он громко кричал: «Мое лицо! Что с моим лицом?» Потом начал кричать про глаза, вроде бы он никого не видит.
— А что у него с лицом? – сочувственно спросил Антон Борисович.
— Да вроде ничего особенного, — ответила Даша. – По виду не скажешь, он все время снег руками захватывал, к лицу прижимал, пытался эту гадость снегом убрать. А врачи сказали, что это точно концентрированная серная кислота.
— Так и сказали, доченька? – подхватил Антон Борисович. – Ты слушайся врачей и всем то же самое говори! Врачи у нас не ошибаются!
— Папа, они тут все хихикают за спиной, — устало возразила Даша. – От Мылина так мочой пахнет… Мне кажется, это никакая не кислота, а моча. Я даже подумала, что это ты какого-то бомжа нанял… Спасибо тебе, конечно, но не стоило.
— Что ты, доченька! – возмутился Антон Борисович. – Разве я такое могу устроить? Я же стараюсь, чтобы у вас все было хорошо! Мне кажется, это связано с его профессиональной деятельностью!
— Ну, наверно, если это не ты, — отозвалась дочь. – Он там Каролину свою в «Лебединое» поставил, а она половину движений выполнить не может. А дочку Аркадия Барабуля на танец с барабанами в «Баядерку» воткнул. Поэтому желающих нанять бомжа с мочой сейчас половина театра, начиная с Глашеньки и Марии Геннадьевны из гардероба.
— Дочка, ты больше не говори про мочу! – не на шутку испугался Антон Борисович. – Ты должна думать о детях! Как им потом жить, если все станут в них пальцем тыкать, что их отцу кто-то мочу в лицо плеснул.
— Ой, папа, я могу говорить все, что угодно! – ответила Даша. – Но куда денешься, если от нашей палаты сейчас на весь этаж мочой воняет? Привези чистые вещи из дому, хорошо? И это ссанье у нас забери! А то его переодели в больничную пижаму, он всем объяснил, что со страху обмочился даже.
— Дашенька, а кто полицию вызвал? – перевел тему разговора Антон Борисович.
— Не знаю, не я! – ответила дочь. – Мне охранник снизу позвонил. Я когда спустилась, то там уже полиция была и скорая. Мне кажется, не стоило это так раздувать, вполне бы обошлись без шумихи…
— Дочка, ты говори, что сама скорую вызвала, хорошо? – настойчиво сказал Антон Борисович.
— Да хорошо-хорошо! – в раздражении ответила дочь. – Кстати, папочка, мне Юлька звонила из кордебалета. Сказала, что там тебя видела. Всех полицейские допрашивали, а ты стоял в стороне, смотрел на все это и улыбался! Ты мне ничего не хочешь объяснить?
— Нет, дочка! – твердо ответил Антон Борисович. – Юле своей скажи, чтобы заткнулась в тряпочку, иначе из театра вылетит, как миленькая. А сама запомни, что я за тебя – кому хочешь глотку перегрызу! Ты меня поняла?
— Да поняла, — огрызнулась дочь. – Только и делаю в жизни, что вас всех понять стараюсь. Надоело!
Почти до утра он монтировал ролик камеры наружного наблюдения. Вернее вырезал из видео наружки марш-броски Толика и Загоруйко к мусорным бакам во дворе. Поссать в машине они тоже не могли и сделали это «за домом», попав под камеры крайнего подъезда, хотя схему всех «карманов» видеонаблюдения он дал Загоруйко еще до Нового года. К счастью, наружка не фиксировала звуки, поэтому на записи было видно, как к его зятю метнулась какая-то тень. Кадры, где Загоруйко можно было опознать, были им затерты или уничтожены. Зато было хорошо видно, как Мылин взмахнул руками, прижал их к лицу и что-то заорал.
Потом он тщательно составлял телефонные записи, которые могли понадобиться в любое время. Про себя он думал, что даже бесплатные омолаживающие процедуры не могли заставить его зятя пойти на эту «авантюру», как он сразу выразился, заподозрив недоброе. Антону Борисовичу он так и заявил, что тот хочет вернуть его к дочери и лишить должности худрука балета. Объяснения, что только так можно покончить с балеруном Николаем, особого успеха не имели.
Растрата зятем профсоюзной кассы подвернулась как нельзя кстати. Как и предполагал Антон Борисович, в планы зятя не входило разбирательство с профсоюзными активистами по поводу его вольного обращения с деньгами дачного товарищества «Услада». Оставалось лишь сгладить кое-какие накладки…
Тут опять раздался звонок с телефона дочери, но взяв трубку, Антон Борисович понял, что звонит зять.
— Антон Борисович! Мне глаза заклеили, я не видел ничего, а Даша вам звонить в коридор вышла, — с нескрываемым страхом без обиняков сказал Мылин. – Тут прямо в палату кто-то зашел, представился следователем. Говорит мне: «Рассказывайте, что произошло!» Я ему все рассказал, как мы договаривались, а сейчас Юлька жене позвонила, говорит, что ролик со мной с мобильного телефона уже в Интернет выложили!
— А как он выглядел? Кто хоть это был-то? – не на шутку испугался Антон Борисович.
— Мне его голос показался чем-то знакомым, — ответил зять. – Вернее, я такой его голос никогда не слышал, но тембр напомнил мне… одного старика-лакея. А здесь его никто не видел! Может, просто не заметили. Он вообще такой, неприметный.
— Ты только не паникуй, это вторжение в твою личную жизнь, — успокоил зятя Антон Борисович. – Мы эту пленку в передаче по первому каналу используем! Скажем, что ты им дал эксклюзивное интервью.
— Я все говорил по тексту! – похвастал зять, как мальчишка, ожидавший от него похвалы.
— Молодец! – ответил Антон Борисович упавшим голосом. – Не волнуйся, все наши договоренности остаются в силе. Каролина в первом составе на «Лебедином», а завтра к тебе весь бомонд явится. У тебя лицо надежно закрыто?
— Да, у меня такой шлем на голове! – успокоил его зять. Только голову побрили, а на лицо нанесли искусственный ожог. Я попросил, чтобы верхнюю губу не трогали, планирую усы отпустить.
— Хорошо, — равнодушно попрощался с зятем Антон Борисович. – Там полная процедура оплачена, все как договаривались! Будешь, как двадцатилетний. Главное, чтобы у нас были хорошие отношения…
— Спасибо, Антон Борисович! – с ноткой неожиданной благодарности ответил зять.
 Без труда он нашел этот ролик в Интернете, удивляясь, как может бесконечно тянуться время, сколько событий в себя вместить, когда надо, чтобы как можно скорее начался новый день. Как это время убегало сквозь пальцы и просачивалось, не давая нормально провести запланированную операцию. А до двенадцати часов ночи он уже успел побывать возле дома зятя, засветиться перед какой-то Юлькой, переговорить с дочерью, зятем, а в первом часу уже может полюбоваться роликом, где зять на камеру рассказывает, будто его хотели убить, а потом, плеснув в лицо едкой жидкостью, передали от кого-то привет и убежали.
Без труда он нашел этот ролик в Интернете, удивляясь, как может бесконечно тянуться время, сколько событий в себя вместить, когда надо, чтобы как можно скорее начался новый день. Как это время убегало сквозь пальцы и просачивалось, не давая нормально провести запланированную операцию. А до двенадцати часов ночи он уже успел побывать возле дома зятя, засветиться перед какой-то Юлькой, переговорить с дочерью, зятем, а в первом часу уже может полюбоваться роликом, где зять на камеру рассказывает, будто его хотели убить, а потом, плеснув в лицо едкой жидкостью, передали от кого-то привет и убежали.
Первое, что его поразило в этом ролике, была нескрываемая радость зятя, которую тот никак не мог скрыть голосом. Этого было уже не поправить. Подлый старик так и рассчитал, что все увидят полностью закрытое лицо Мылина, якобы после «химического ожога», услышат его счастливый голос, который выдавал его с головой. Свободный доступ никем не замеченного старика в палату ожогового центра напрочь исключали версию о реанимации. А ликование в голосе Мылина будто говорило всем: «Все уже позади! Больше никто ко мне не будет приставать с этой «операцией» и «омоложением»! А главное, хрен вы меня здесь достанете со своими профсоюзными петициями!»
* * *
 …А в это время пресс-секретарь Никифорова огрызалась по телефону: «Да! Театр! Да, у нас ЧП! А за всеми объяснениями – звоните нашей мировой звезде балета Николаю Илларионовичу! Да, записывайте телефон…»
…А в это время пресс-секретарь Никифорова огрызалась по телефону: «Да! Театр! Да, у нас ЧП! А за всеми объяснениями – звоните нашей мировой звезде балета Николаю Илларионовичу! Да, записывайте телефон…»
Напротив нее сидел заместитель директора Мазепов, готовя заявления для прессы. Писать заявления, думая про себя, какими же идиотами надо быть… Среди звонков Никифоровой было несколько каких-то явно подставных, выявлявших, что план Антона Борисовича явно давал сбои.
— А правда, что вашего худрука Мылина облили мочой? – поинтересовался какой-то старик у Никифоровой, от чего та принялась визжать в трубку про то, что старым людям надо совесть поиметь. На что трубка ей ответила: «Вам бы тоже не мешало святой водой в рожу плеснуть!»
— Слушай, что-то делать надо! – сказала она Мазепову. – Мы как договаривались? В социальной сети Facebook появляется лже-страничка Филина, где будут напечатаны его вскрытые телефонные разговоры. А мы скажем, что почерк один и тот же. Как и в том случае, когда была размещена ложная страничка театра, а на нее были выложены неприличные снимки из вскрытого телефона директора балетной труппы. И мы должны были подтвердить, что таким образом наш балерун Коля прорывается к власти.
— Да, подтвердил Мазепов. – А преступление мы должны были объявить «чисто женским», а в сеть должна была быть наполнена возмущением о сексуальной ориентации Николая. Вышла эта бесподобная «мадам Огурцова» и заявила, что сексуальная ориентация у нашего Коли абсолютно правильная, потому что при нем она – «чувствует себя женщиной». А половая ориентация всяких «хамов с помойки» ее нисколько не интересует, но она не потерпит, чтобы всякое ничтожество тыкало ей под нос «свою сраную ориентацию». Так что… никакого скандала нет и не будет.
— Почему? – заорала Никифорова. – У меня уже текст для директора готов про эту лже-страничку! Вот: «Заказчик был уверен, что публикация переписки Мылина породит раскол внутри театра, его руководства. Коля, кстати, врет, когда говорит, что Мылин называет артистов хорьками. Ничего подобного, я уверен, это была добавленная фраза самим нашим премьером!»
— Он, конечно, может это сказать, — замялся Мазепов. – Но рейтинги у странички были слабыми. Одиннадцать посещений в день с наших айпишников! Это же не скандал. Кому интересно, кого Мылин считает «хорьками»? Пришлось убрать…
— А кто это знает-то? – спросила Никифорова.
 — Да уж кому надо, те Яндекс-метрику воткнут, не переживай! – отмахнулся Мазепов. – Мы пытались на подконтрольных форумах публику раскачать. Только сейчас ситуацию отслеживают так, что все душат в самом зародыше. Мадам Огурцова заявила, что не понимает, как это переписка телефонов Мылина дается без сообщений «кривоногой балерунье Каролине», которая «не может пол пируэта из себя выдавить», а ее ставят в «Лебединое озеро» первым составом. Потом заявила, что Коля наш уже снискал такую славу, что еще долгие годы люди будут идти только, чтобы на него посмотреть. И кем считает артистов Мылин, после того как поставил дочку хохмача Барабуля на танец с барабанами – так это и без его фальшивой переписки видно. Все в таком духе. У нее три подпевалы, они каждое ее слово разносят и от себя добавляют.
— Да уж кому надо, те Яндекс-метрику воткнут, не переживай! – отмахнулся Мазепов. – Мы пытались на подконтрольных форумах публику раскачать. Только сейчас ситуацию отслеживают так, что все душат в самом зародыше. Мадам Огурцова заявила, что не понимает, как это переписка телефонов Мылина дается без сообщений «кривоногой балерунье Каролине», которая «не может пол пируэта из себя выдавить», а ее ставят в «Лебединое озеро» первым составом. Потом заявила, что Коля наш уже снискал такую славу, что еще долгие годы люди будут идти только, чтобы на него посмотреть. И кем считает артистов Мылин, после того как поставил дочку хохмача Барабуля на танец с барабанами – так это и без его фальшивой переписки видно. Все в таком духе. У нее три подпевалы, они каждое ее слово разносят и от себя добавляют.
— И вы не можете справиться с четырьмя бабами? – недоверчиво спросила Никифорова.
— Это непросто, поверь! – заметил Мазепов. — Никто не рассчитывал, что сама «мадам Огурцова» этой ситуацией заинтересуется. Она никогда раньше про балет не писала. Ее прикончить пытались, всякие проблемы в реале создать… А когда это не вышло, сам не знаю, что произошло. Все, что она говорит, обладает какой-то силой. Каждый раз самому хочется ее фразу закончить: «Приговор окончательный, обжалованию не подлежит!»
— Надо выявить эту ее связь с нашим балеруном! Вообще у меня были предположения, что при этом случае надо весь Интернет зачистить! – мстительно заявила Никифорова.
 — А я боюсь, что именно эта угроза и заставила ее оголить штыки, — возразил ей Мазепов. – Сейчас по любому поводу, касающемуся театра, все читают только ее! И не так важно, что мы скажем или сделаем, как то, что в результате скажет она!
— А я боюсь, что именно эта угроза и заставила ее оголить штыки, — возразил ей Мазепов. – Сейчас по любому поводу, касающемуся театра, все читают только ее! И не так важно, что мы скажем или сделаем, как то, что в результате скажет она!
— Ты сам должен понимать, что все это ерунда! – зло оборвала его Никифорова. – Делаем все, как договаривались. Это мы представляем театр!
— Уже нет, — тихо ответил Мазепов. – Она уже заявила, что театр – это Николай, а мы все – дармоеды и паразиты.
— Вот сволочь! – вырвалось у Никифоровой.
— Не то слово! – подтвердил Мазепов. – Причем, пишут эти огуречные дамы так, как не всегда за деньги пишут. Вернее, чувствуется, что пишут не за деньги. Значит, совершенно нельзя предположить, что они там напишут… Деньгами-то хоть как-то проконтролировать можно.
— Ну, так перекупи ее! – не выдержала пресс-секретарь.
— Боюсь, что после того, что с ней уже сделали, это не имеет смысла, — грустно усмехнулся Мазепов. – только сунемся – запалим всю операцию. Вот, прочитай, что я тут нацарапал.
Телефон Никифоровой опять зазвонил, она взяла трубку, но все ее раздражение мигом улетучилось от властного холодного тона звонившего мужчины: «Слушай, Окипета, вы совсем уж там? Почему новость о нападении индексируется в Интернете вчерашним днем? Вы заранее вот это напечатали?..»
Никифорова под действием голоса позвонившего на глазах вытягивалась в струнку так, как никогда не вела себя даже при директоре театра. Голос зачитал выдержку.
Нападение на Мылина, судя по видеозаписи, произошло в 23:07. Плеснув балетмейстеру кислотой в лицо, преступник сразу же убежал. Спустя четыре минуты пострадавший, пытавшийся все это время промыть лицо снегом, добрался до будки охранника. Артист попросил сторожа вызвать скорую помощь и позвонить его жене.
Дарья Антоновна прибежала к месту покушения на ее мужа уже через 11 минут. На кадрах видно, что Мылин находился в шоковом состоянии, он спотыкался, падал, поднимался на ноги и вновь валился на снег. Прибывшие на место медики диагностировали у артиста химические ожоги кожи лица и роговицы глаз.
— Как эта заметка в газете могла появиться в тот же день? – тихо спросил Никифорову голос по телефону, от которого у нее остекленели глаза, а лицо будто смерзлось и превратилось в камень. – Кто занимался хронометром по минутам? Вы в курсе, что в полиции уже дали интервью на пленку, что вызов получили в 23:02, а выехали на место преступления в 23:05? Или думаешь, Каллиопа не поймет, что звонок потому и прозвучал раньше, что у этих гавриков смена заканчивалась? Ты понимаешь, что сейчас надо тянуть время, чтобы все это стерлось у всех из памяти?
— П-понимаю, — замёрзшими губами ответила Никифорова.
— Всех выгоняй нагнетать, поняла? – приказал ей нестерпимо холодный голос. – Чтобы перекричали всех!
Никифорова лишь беспомощно кивнула трубке, услыхав гудки отбоя.
Мазепов хотел пошутить на счет ее очередного звонка, но осекся, увидев приоткрытый рот Никифоровой, из которого торчало множество слишком мелких и острых зубов. Взгляд ее словно повернулся вовнутрь, потому что зрачков он в ее глазах не увидел.
Множество глупых обрывочных мыслей проносилось в его голове, пока она расправляла свои ужасные когти и крылья. По щекам потекли горячие слезы, в который раз он давал себе слово больше не засиживаться с пресс-секретарем по ночам… Опустив голову, чтобы не видеть ее абсолютно белых слепых глазниц без зрачков, он пытался взять себя в руки, чувствуя волны внезапно накатившего ужаса. И когда она одним рывком оказалась возле него, он лишь крепко зажмурился, безвольно опустив руки, пока в нем в последних конвульсиях билась преданная им душа.
* * *
— А правда, что вашего худрука Мылина облили мочой? – спросил телефонную трубку старик, сидевший в курульском кресле, украшенном медузиными головками по подлокотникам. Выслушав визги трубки про то, что старым людям надо все же совесть поиметь, он безмятежно ответил: «Вам бы тоже не мешало святой водой в рожу плеснуть!»
— Скажи, что ты делаешь? – спросил его внезапно появившийся в комнате молодой человек в белой тоге, обнажавшей его красивые руки с широкими браслетами. – Ты думал, что я не спрошу?
— Нет, я знал, что вы спросите, — пожал плечами старик. – Поэтому торопился хоть что-то сделать, успеть…
— Видео успел разместить в Интернете, насколько я вижу, — сказал Холодец, кивнув на раскрытый ноутбук. – Окипете успел отзвониться… И это все твои успехи на сегодня?
— Ну, кто-то успел и поболее меня, — ответил старик.
— Я тебя зачем оставлял? – сам себя спросил Гермес, сделав старику жест, что не нуждается в его ответе. – Даже камею позволил тебе оставить! Я думал, что ты сможешь организовать не только очередной наезд на Каллиопу, но и… энергетов ваших. Чтобы они заставили ее отказаться от своей миссии и от жизни! Ты должен был еще в первый раз доказать, что раз человек придерживается какой-то «миссии», то он ненормальный и нуждается в принудительном психиатрическом лечении!
Последние слова красавец кричал так, что зазвенели стекла и вазочки в античной гостиной. Старику показалось, что фигурки античных героев на выставленных тарелках и черепках и черепках начинают оживать под действием гнева этого невероятно холодного и прекрасного существа, которому ему всегда хотелось покориться, чтобы навсегда окаменеть и раствориться в его воле.
— Я все так и делал, все испробовал, — ответил он на крик вечно молодого бога, удивляясь своему спокойствию. – Всю жизнь я не давал старшим музам объединиться, поверить в себя. А с этой… какая-то промашка получилась. Всю осень на нее шли наезды правоохранительных структур, а так получилось, что из-за того, что с нее первой начали отработку репрессивных мер, это как-то… притянуло к ней сущности других муз. Вернее, тех, кто мог ими стать. Надо было сразу понять, что лучше оставить ее в покое.
— Так и оставил бы ее… в покое! В вечном покое! – взорвался красавец.
— Но вы же сами сказали воздействовать на нее, нагнетать страх, — спокойно возразил старик. – Я же не виноват, что все старшие музы объединись, так уж получилось. Они каждый вечер устраивали свои… сборища.
— Что ты несешь, какие еще сборища? – обернулся к нему красавец.
— Да по скайпу! – пояснил старик. — Они же бабы грамотные, осваивают новые технологии. Это мы… по старинке. А мы только начинаем воздействовать на нее на расстоянии, методики-то известные, апробированные… а нам тут же ответ идет. Типа все вокруг ненавидят лжецов, воров и тех, кто мешает людям творить и самореализовываться. Так у нас первыми ушли самые молодые…
— Куда ушли? – опешил Холодец.
— Самореализовываться! – пояснил старик недогадливому гостю. – И каждый день были какие-то изменения. У нас в группе был один… ну, просто палач! Ему чужую душу только дай поистязать. Гипнозом на расстоянии владел просто мастерски! Он одно время даже в цирке выступал, между прочим.
— И что? – недоумевал гость.
— Ничего, тоже ушел в монастырь, — вздохнул старик. – Меня с собой звал… Но у меня ведь здесь дела нерешенные остались. Со мной тоже что-то такое начало происходить. Вначале я решил Мельпомене отнести камею. А потом начал за Мылиным следить…
— Зачем? – с искренним недоумением спросил Гермес.
— Да, я хотел внушить Каллиопе перерезать себе вены, как вы мне приказали, — ответил старик. — И, видно, попутно она меня прокачала, что аналогичное ожидает и Мельпомену. Тогда она приказала мне следить за Мылиным. Как она заметила: «Чтобы уравнять шансы!»
— Значит, ты стал у нее на побегушках? – развел руками Гермес. — Камеи он раздает, следит за всеми, осваивает новые технологии… Фильм с Мылиным отснял – тут же в Интернет! Окипете позвонил, чтоб свое место не забывала! Молодец!
— Боюсь, что все это бесполезно, — с улыбкой ответил старик, видя, как Гермес нетерпеливо посматривает на свои перламутровые ногти.
— Отчего же? – удивился тот.
— А не знаю, — просто ответил старик. – Я как-то изменился… переформатировался!
— А давай проверим, — рассмеялся Гермес.
Он подошел к старику и попытался потянуть что-то на себя на расстоянии нескольких сантиметров от домашнего халата хозяина. Старик тоже следил за его удивительно красивыми пальцами. Но ничего не происходило, не возникало знакомого свечения, льнувшего к пальцам психопомпа.
— Ну, вот! – с удовлетворением сказал старик. – Сами теперь видите! Вы больше не мой проводник душ, я теперь во власти Либитины. Так мне и Каллиопа сказала. А ее мучал, я честно выполнял данное вам слово! И на сестер ее нападал… Они собирали круг и отбивались от меня. Так что все это бесполезно.
— И что же с тобой делать? – растерянно спросил красавец. – Опять отпустить? Или как теперь говорят, «понять и простить»? Чтобы ты Окипете названивал и гадости говорил?
— Не знаю, — ответил старик с грустной усмешкой. – Но я впервые ничего не боюсь… Мне она сказала, что когда «душа на месте», то я перестану… бояться зла. Она сказала, что все это было не потому, что я таким родился. Хотя всегда был в этом уверен. А потому, что я слишком сильно боялся зла. А у нее какой-то особый дар… делать все нестрашным и даже смешным. Ведь и сейчас с Мылиным что-то сразу пошло не так! Рано или поздно всплывает, что это была никакая не кислота, а моча бомжа из Подмосковья. Кислота – страшно, а моча – смешно! Да и зачем какие-то сложности с «выпариванием серной кислоты», если в любом магазине уксусная эссенция продается? Вы хоть в курсе, сколько преступлений совершено просто с уксусной эссенцией? Вы понимаете, что над вами просто смеются? Вы делаете глупости, всем заметные и очевидные и все ваше зло превратится…
Дальнейшего его гость выслушивать не собирался, он схватил старика за хрустнувшую шею и с силой выкинул его обмякшее тело в окно. Через разбитые стекла в комнату ворвался снежный вихрь, стало темно, и в лунном свете он увидел двух сыновей Подарги, зависших над фигуркой старика, распластавшегося на залитом кровью снегу.
* * *
Приехав в понедельник вечером домой, Игнатенко застал дома заплаканную Гелю. Возвращаться в Москву ему не хотелось. Но зная, что Геля вся измучилась ожиданием, уже звонила Славке и Васильеву, он, с тоскливым чувством загнанного в угол человека, молча собрал свои нехитрые пожитки, и поехал с ребятами домой.
За ужином Геля на ноутбуке показала ему все, что за пятницу, выходные и понедельник наговорило руководство театра, какие заявления для печати сделали все, кто имел хоть какое-то отношение к балету.
Директор театра сразу же заявил о возможной причастности к нападению на худрука балета Мылина известного танцовщика Николая: «У меня ощущение только одно: все, что случилось, — это закономерный итог того беспредела, который создавался в первую очередь Николаем Илларионовичем. Поливание грязью театра и его сотрудников, постоянные интриги и уверенность в собственной безнаказанности — фон, на котором стала возможна эта трагедия».
— Геля, а ты же ночью мне это говорила, со слов Николая Илларионовича! Ему уже это заявили, — вспомнил Александр. – Директор-то что, заранее это заявление сделал? Странно… Пресс-релиза в три листочка от них не дождешься, а здесь они заранее заявления делают!
— Не знаю, Саша! – отозвалась Геля. – Нас всех на допрос вызывают. Николая Илларионовича уже привлекли к расследованию в качестве свидетеля. Сказали, что его будут допрашивать на детекторе лжи.
— Геля, прекрати реветь! С ним все будет хорошо! – сказал Александр, тяжело вздыхая.
 — Статьи какие-то странные выходят, — всхлипывая сказала Геля. – Будто нарочно так пишут: «Премьер балета заявляет о покушении на Мылина: «Я тут абсолютно ни при чем!» Как так можно? А бывший министр культуры его везде называет «балерун». Написал статью: «Я бы этого балеруна давно уволил!»
— Статьи какие-то странные выходят, — всхлипывая сказала Геля. – Будто нарочно так пишут: «Премьер балета заявляет о покушении на Мылина: «Я тут абсолютно ни при чем!» Как так можно? А бывший министр культуры его везде называет «балерун». Написал статью: «Я бы этого балеруна давно уволил!»
Александр быстро просмотрел статью бывшего министра культуры, поняв, что началась настоящая кампания шельмования Николая Илларионовича. При этом Мылин превозносился, как «самой яркий персонаж из руководства театра»: «Удар был нанесен по самому яркому персонажу из руководства театра, самому публичному… это плохо репутационно для театра в целом: потому что повеяло чем-то декадансно-позапрошловековым; в этом во всем есть какая-то демонстративная театральность, дурная провинциальность«.
Игнатенко удивило, что повсюду мелькали ссылки и на заявления Антона Борисовича, который сразу же после покушения на жизнь Мылина прочно обосновался в театре.
— Геля, а почему во всех статьях интервью дает Антон Борисович?
— Не знаю! Но Юля из кордебалета вчера в раздевалке рассказывала, что видела его прямо там. Даша точно ничего не знала, она к Мылину побежала. А Антон Борисович смотрел на все и улыбался… А потом выложили такой ролик с Мылиным в Интернет… Все говорят, что не похоже на химический ожог, он был в плотной повязке. А в понедельник Каролина говорила, что Мылин сделает круговую подтяжку лица и уберет близорукость, тогда на ней женится. Ну, чтобы помолодеть.
— Ни фига себе! – удивился Игнатенко. – Знаешь, я лично не могу избавиться от ощущения, что это какая-то подстава! Чтобы не отвечать за растрату профсоюзной кассы!
— Но у них все схвачено и согласовано! А Мылин заявил в газетах, что знает заказчика преступления, но назовет его имя только по согласованию со следствием, — сказала Геля. – Вот он уже заявил: «…это мужчина лет 25, плотного телосложения и в маске».
«Какая еще маска?» — подумал Александр, читая заявления Антона Борисовича разным СМИ.
Тесть худрука Мылина заявил: «Заказчик преступления находится внутри театра!»
…мы застали тестя пострадавшего, Антона Борисовича, который рассказал нам обо все, что произошло и происходит сейчас с его зятем… Худруку театра отомстили, плеснув в лицо кислотой
— Антон Борисович, наши соболезнования! Когда мы об этом услышали, подумали, что это личное, ревность какая-то…
— Да ну что вы! Это все явная месть за то, что мой зять действительно работает и пытается что-то сделать в театре. И это особенно страшно!
Тесть главного балетмейстера театра Мылина также заявил, что знает, кто стоит за жестоким преступлением, и предложил напавшим на его зятя добровольно сдаться в полицию. По его мнению, заказчики преступления не оставят исполнителей в живых: « Думаю, исполнителям этого жуткого преступления нужно сегодня же явиться с повинной в полицию и признаться в содеянном. Их жизни реально угрожает опасность, поскольку за этим стоят очень серьезные заказчики… Они не оставят свидетелей, — обратился к преступникам через прессу Антон Борисович. — Мы, члены семьи, знаем, кто за этим стоит. Это люди, которые хотели или сместить Сережу с должности или сделать его подконтрольной фигурой. К сожалению, в театре сейчас творится беспредел из-за раздела власти.
— Слушай, Геля, а хоть кто-то нормально о нас пишет? – поинтересовался он.
— Да! Пишут! Какие-то странные женщины в Интернете! – ответила Геля. – Очень хорошо пишут. О бывшем министре написали, что – как отмененные деньги, он перестал появляться в театре. Замдиректора Мазепов вообще на больничном. А Никифорова и директор все сказали и как будто выдохлись.
— А чего ты тогда плачешь? – спросил Игнатенко виновато.
— Мне Николай Илларионович передал, чтобы ты тоже читал «огуречные» ресурсы и повторял все, что там пишут, — заплакала Геля. – А раз так, значит, он знает, о чем говорит. Он сам тоже сейчас все читает…
— Геля… любимая, — сказал Сашка, глядя на нежный профиль Ангелины, склонившую головку. – Вы догадались, да?
— Саша, я звонила Славке и Васильеву! Прости! – призналась Геля. – Потом, когда все насели на Николая Илларионовича, я рассказала, как ты пытался Мылину петицию вручить, как мне не нравился этот Загоруйко, который постоянно возле тебя крутился. И сказала, что ты собрался идти к следователям.
— А ты откуда знаешь? – удивился Игнатенко.
— Ты до утра во сне кричал, — сказала со вздохом Геля. – Ты кричал, что никого не просил «захерачить», что сам пойдешь в тюрьму… Ты ведь все мне расскажешь?
— Да, расскажу! – ответил Игнатенко. – А что сказал Николай Илларионович?
— Вот он и сказал тебе сидеть тихо, читать «огуречный» блог и портал! – ответила Геля. – Но сказал, что тебе нельзя им поддаваться, у них это какая-то инсценировка. Ты ролик-то посмотри! А Юлька сказала, что от Мылина сильно пахло мочой, а вовсе не кислотой.
Игнатенко посмотрел другие закладки на ноутбуке Гели. Из известных фигур в защиту Николая Илларионовича выступила одна балерина Владимирская, уволенная «из-за своего веса». Она заявляла, что в театре давно сложилась криминальная обстановка, а балетная труппа давно превратилась в псевдо-эскорт-агентство для богатых спонсоров: «Устраиваются вечеринки для олигархов, для спонсоров. И они приглашают балерин из театра. Этих девочек приглашают не частным образом, а через администрацию театра. Девочкам говорят: если вы пойдете на вечеринку, у вас будет будущее. Если нет, то в следующую поездку вы не поедете. Ну и что они могут тут поделать? Я видела все это своими собственными глазами. И это говорилось совершенно открыто, ничего даже не скрывалось».
Никифорова пыталась оправдываться, но лучше бы в этом случае она молчала, потому что все ее оправдания звучали несколько двусмысленно: «У театра много попечителей, и когда мы находимся за границей, бывают вечеринки, устраиваемые советом попечителей. Одна из лучших вечеринок была в Версале, туда было приглашено около 800 человек, включая танцовщиков театра. Проводятся и более скромные вечеринки, это правда. И правда, бывают вечеринки, куда приглашают танцовщиков, и мужчин, и женщин, и певцов. Что касается всего остального, то это абсолютно ложная информация».
Игнатенко знал, что саму Владимирскую моментально заткнули бы, заикнись она о таком раньше, поскольку она выкладывала свои эротические фотографии в Интернет. Но об этих фотографиях никто не упоминал, потому что «мадам Огурцова» заявила, что на них балерина Владимирская на редкость красива, а потому грех такую красоту скрывать от общества, где столько всего безобразного.
Постепенно почувствовал уверенность и сам Николай Илларионович, заявив, что в театре: «Постоянно, как в 37-м году при Сталине, организуют собрания против меня, заставляют людей подписывать письма против меня – вот неделю назад это было. И люди отказались, все педагоги отказались».
А дальше он вообще высказал сомнения, что вещество, которым Мылину плеснули в лицо, было кислотой. Он заявил, что реакция всего окружения худрука показала, что все произошедшее с Мылиным, прежде всего, задумывалось как удар по нему. «Если это, не дай Бог, была бы кислота, то еще много месяцев нельзя было бы открывать, и ничего бы такого, что мы видим, на лице бы не было».
Никифорова, в отсутствии приболевшего Мазепова, у которого всегда находились слова для таких случае, заявила, что у нее «нет слов», и выразила надежду, что Мылин вскоре вернется к своей работе в театре.
— А когда он вернется, — сказал Александр, за много дней тоже обретая уверенность, — Тогда мы спросим, как он потратил профсоюзную кассу!
* * *
 В постоянном волнении минул январь, когда день начинался с нетерпеливого ожидания, что же там напишут в «огуречном» про их дела. Писали не всегда, и когда не писали, то Николай Илларионович, купивший себе планшетник, не мог скрыть своего разочарования.
В постоянном волнении минул январь, когда день начинался с нетерпеливого ожидания, что же там напишут в «огуречном» про их дела. Писали не всегда, и когда не писали, то Николай Илларионович, купивший себе планшетник, не мог скрыть своего разочарования.
В начале февраля у него уже возникла твердая уверенность, что опасность физической расправы с ним миновала. Он признался Геле, что каждую ночь в конце января опасался, что к нему могут ворваться злоумышленники, чтобы инсценировать, будто он покончил в раскаянии за совершенное злодеяние.
— Или типа меня убрали мои «подельники», поскольку, как заявил Антон Борисович, «за этим жутким преступлением стоят очень серьезные заказчики, которые никогда не оставляют свидетелей», — говорил он Геле, снова научившейся смеяться.
— Вы так смешно Антона Борисовича передразниваете, — заливалась она смехом.
— Я все жду, когда его, наконец, допросят с применением детектора лжи, он же так много об этом знает! А почему-то стараются допросить именно тех, кто вообще ничего не знает! — серьезно отвечал Николай Илларионович. – Мне кажется, что они ко мне все же пытались идти, да-да! Ты же знаешь, какой я осторожный и рациональный человек. А тут вдруг мне начинало казаться странной вся моя жизнь, непрестанная работа над каждым движением, диеты, классы, репетиции… И мысли явно не мои в голову лезли! Мол, зачем это все было? Я чувствовал такую тоску, такой холод… Сейчас в это даже сложно поверить! Но это страшные люди, поверь мне!
В начале февраля Мылина, который вовсю давал интервью в больнице, как хорошо себя чувствует, как рвется «окунуться в работу», вдруг отправили на лечение в Германию. С ним поехала Даша, а Каролину Спешневу сняли с партии Одиллии-Одетты.
В конце февраля вышло несколько больших передач о происходящем в театре, которые были сделаны уже в полном соответствии с публикациями «огуречных» ресурсов. Тон в освещении нападения на Мылина поменялся, на публику уже никто не давил, будто произошло «жуткое преступление», а уже прозрачно давалось понять, что это некая инсценировка, призванная прикрыть очередные «финансовые махинации» в театре. Все публикации и передачи теперь начинались с того, что стоимость реконструкции театра возросла в шесть раз, а на потраченные средства можно было выстроить два современных аэропорта или четыре таких театра. Далее упоминалось, что именно против такой «вандальной» реконструкции, в ходе которой общество получило во многом неприспособленный новодел, и выступал премьер театра, подвергшийся за последнее время беспрецедентной травле.
На одну из таких передач Николая Илларионовича пригласила известная журналистка, которую он часто упоминал как «наша Эрато». Пригласила она и балерину Владимирскую. Узнав это, премьер немного помрачнел и сказал Геле странные слова: «Что-то после этой передачи произойдет! Они не терпят, когда три музы собираются вместе!»
И буквально на следующий день после эфира у него кто-то пытался проникнуть в квартиру. Полиция рылась у него дома почти два дня. А потом, так ничего и не найдя, полицейские сделали заявление, будто Николай Илларионович сам «испортил замок своим ключом».
Накануне восьмого марта, когда Геля и Саша уже не ожидали ничего дурного, в шесть утра к ним ворвались полицейские, устроив обыск.
С полицейскими зашел какой-то высокий моложавый мужчина, внимательно вглядываясь в Гелю. Пожалуй, он был удивительно красив, но Геле стало очень страшно. Ей было и так очень тяжело на душе, когда чужие люди рылись в ее вещах. Но с приходом этого человека на нее накатила особая тоска, какую ее мама называла «смертной». Геля старалась на него не смотреть, но чувствовала, что он направляется прямо к ней — по тому, как у нее начали холодеть пальцы на ногах.
Вдруг позади этого человека начали бить часы, подаренные Николаем Илларионовичем на Новый год. Тогда он с непонятной ненавистью схватил эти часы, бросил их на пол и начал давить ногами. Саша и Геля с ужасом смотрели на него, не в силах даже что-то сказать, потому что сама его выходка нагоняла на них леденящий ужас.
Этот человек внимательно посмотрел на Гелю и вышел.
Ничего не обнаружив, полицейские повезли Сашу, закованного в наручники, в его квартиру, которую никак не хотела освобождать Маргарита Леонидовна.
Геля за ними не поехала, но ей позвонила Юля из кордебалета и сообщила, что ужасная женщина, которая живет в квартире Саши, кричала на весь подъезд, будто Саша у нее ежемесячно вымогал деньги и оставлял симки, купленные на базаре у цыган. И что она это в суде всем докажет. Юля сказала, что женщина редко выходит из квартиры, но даже полицейские там долго быть не могли, там ужасно чем-то пахнет. А Саша им кричал: «Вы видели, во что она мою квартиру превратила?» А полицейские оттуда просто сбежали!
 Геля до вечера ждала Сашу в отделении, потом пошла спать домой. А утром ей позвонила Юля и сказала, что ночью, видно, Сашку сломали, он сделал на камеру журналистам заявление, по всем каналам сейчас крутят и в Интернете выложили.
Геля до вечера ждала Сашу в отделении, потом пошла спать домой. А утром ей позвонила Юля и сказала, что ночью, видно, Сашку сломали, он сделал на камеру журналистам заявление, по всем каналам сейчас крутят и в Интернете выложили.
Геля полезла в свой ноутбук и с ужасом прочла, будто Саша на допросе сказал, что полностью раскаивается, что не хотел причинять такого вреда Мылину, не планировал нападения таким изуверским способом, готов возместить причиненный худруку ущерб и просит простить его.
«Да, это я организовал данное нападение, но не в той мере, в которой оно произошло, — сказал полицейским Игнатенко».
Тут добавлялось для усиления эффекта, что Мылин, которому Загоруйко плеснул кислотой в лицо, получил сильные ожоги кожи и роговицы глаз, поэтому всем троим «злодеям» грозит не менее семи лет тюрьмы.
…Мылину пришлось делать несколько операций в России, а затем в Германии, куда худрука театра отправили после лечения в московской клинике. Зрение Мылина до сих пор не восстановилось до конца. Особенно сильно пострадал правый глаз, на момент отъезда из Москвы он видел лишь на 40 процентов.
По официальной информации пресс-службы столичной полиции, конфликт между Мылиным и Игнатенко произошел на почве разногласий, касающихся профессиональной деятельности худрука балетной труппы
* * *
— Николай Илларионович, сделайте что-нибудь, — плакала в телефон Геля. – Сашу взяли, меня к нему не пустили… Я там простояла до вечера, корреспондентов пускают, а меня нет…
— Геля, что я могу сделать? Ты же знаешь, стоит мне сунуться, они только рады будут все свалить на меня. А после программы, устроенной нашей Эрато, у меня… квартиру вскрывали… Подожди, а в Интернете об этом хоть что-то пишут?
— Та женщина с огуречных сайтов, которые вы все время читали, всего лишь один вопрос задала, как это злоумышленников поймали по телефонам, если исполнитель – рецидивист? Что, мол, у нас рецидивисты не знают, что цыгане на рынке торгуют симками в пять раз дороже, чем по паспорту? Тогда ей в ответ стали делать официальные сообщения, что Саша предварительно купил у цыган на базаре много симок, которые изъяли при обыске в его квартире, где живет эта ужасная Маргарита Леонидовна. А у нас денег не было за квартиру заплатить, а не то что на симки у цыган.
— И что она написала? – спросил Николай.
— Ничего не написала, — зарыдала девушка. – Просто написала одну фразу: «Спасибо, теперь мне все ясно!» И еще дала выдержку из письма анонима, который ей написал, что раз они ей вас жить оставили, так она за Сашу заступаться не должна, потому что «за все в жизни надо платить!»
— Геля, ты тихонько иди к моему дому, я пока нашей диве позвоню! – намеренно спокойно сказал девушке премьер. — Надо все же менять эту ситуацию.
Он вздохнул, нашел в телефоне нужный номер и стал ждать ответа.
 — Я уже в курсе, — раздалось в трубке глубокое меццо вместо приветствия. — Видела Сашу по телевидению, его явно это заставили сказать без адвоката. Мне кажется, его сильно били, у него синяки под глазами.
— Я уже в курсе, — раздалось в трубке глубокое меццо вместо приветствия. — Видела Сашу по телевидению, его явно это заставили сказать без адвоката. Мне кажется, его сильно били, у него синяки под глазами.
— От них можно ожидать чего угодно! – с излишней горячность заявил Николай.
— Теперь ты понял это? Помнишь, наш разговор накануне Нового года? – грустно спросила дива. — Знаешь, сколько я пережила почти аналогичных историй?
— Мне сейчас постоянно пеняют этими «аналогичными историями». Но пока никого не делали насильно уголовником! – ответил Николай. – Все время пеняют, не обращая внимания, что с нами ситуация иная! Мол, уходили и раньше, так же несправедливо, с обидой, но не судились с театром. А вот я подал иск в суд по поводу выговоров, которые мне вынесли за общение с прессой…
— Во-первых, на момент увольнения все эти артисты были гораздо старше тебя и без скандала бы не ушли, — резонно заметила примадонна. — А, во-вторых, никто им нарочно выговоры не выносил, чтобы уволить по статье и лишить всех надбавок к пенсии. Были политические увольнения, Наину вообще выдворили из страны, но она от этого выиграла в оперном статусе. Но ты никогда не влезал в политику и не использовал свою артистическую известность в политических целях.
— Я видел, как это ужасно смотрится, когда разные артисты начинают за кого-то агитировать, — сказал премьер. — Вообще посмотрел в детстве чтение опуса «Малая земля» тогдашнего Генерального секретаря КПСС известными драматическими артистами, мне стало так плохо, что после подобного афронта и мысли подобной не возникало.
— О! Ты еще не знаешь, что перед самым развалом СССР было знаменитое письмо в газету «Правда» артистов балета о нравах в театре, после чего подписантов по команде из ЦК уволили, — грустно рассмеялась дива. — История циклична. Но зря некоторые люди считают, будто на новом витке ее повторение будет в точности таким же – почти незамеченным обществом, с явной и безнаказанной несправедливостью. А все потому и повторяется, что в первый поступили несправедливо.
— А разве сейчас с Игнатенко, возлюбленным этой несчастной девочки, поступили справедливо? – возмутился Николай. — Разве он должен там сидеть? Или со мной в последнее время поступали справедливо? Ни один человек не вынесет потока хамства и вранья, вылитых на меня. У всего есть предел.
— Коля, ты хоть понял, что на тебя и половины не капнуло, из того, что тебе было уготовано? – поинтересовалась примадонна. — Ты ведь можешь судить по тем каплям, что до тебя долетали, что тебя на самом деле ждало. Поверь, если бы не Каллиопа, ты бы даже не решился в суд подать на этих злостных клеветников.
— Как они смеют заявлять в прессе, что я судился с театром? – не мог остановиться премьер. — Я что, булочками в переходе торговал? Театр — это кто? В первую очередь артисты. В данном случае, я. Да, театр двести с лишним лет был до меня и много веков будет после, но, как бы кто ни крутил, последние два десятилетия связаны в балете с моим именем!
— Да, а с чьих слов ты это говоришь? – поддела его Полигимния. — Это же посланницы Каллиопы на оперном форуме отстояли тезис «Николай – это и есть олицетворение театра, а не его директор, не имеющий профильного образования, абсолютно некультурный, путающий оперу и балет!» Коля, ты чувствуешь себя уверенно, потому что она следит за каждым твоим шагом. Я видела, что вся эта история с нападением на вашего худрука балета – направлена исключительно на тебя. В Игнатенко они вцепились, потому что не смогли тебя уничтожить, так хоть его…
Раздался звонок в домофон, Николай извинился и подошел у табло возле двери. Нажав на кнопку, он услышал знакомые всхлипывания.
— Геля, поднимайся и не реви! – мягко сказал он девушке. – Извините еще раз, тут ученица моя пришла, Геля Воронова.
 — Будь осторожен, Николай! – с тревогой ответила дива. – Ты говоришь со мной, а сейчас к тебе поднимается не просто девочка Геля, а третья муза! Ты слишком погружен в свои судебные разборки за выговоры. Это очень психологически понятно, но этого они и добиваются. Однако сейчас ты начинаешь понимать, насколько опасно, когда собираются три музы вместе? Сейчас же будет нападение гарпий, приготовься! Вспомни, что было, как только ты дал интервью Эрато вместе с Терпсихорой!
— Будь осторожен, Николай! – с тревогой ответила дива. – Ты говоришь со мной, а сейчас к тебе поднимается не просто девочка Геля, а третья муза! Ты слишком погружен в свои судебные разборки за выговоры. Это очень психологически понятно, но этого они и добиваются. Однако сейчас ты начинаешь понимать, насколько опасно, когда собираются три музы вместе? Сейчас же будет нападение гарпий, приготовься! Вспомни, что было, как только ты дал интервью Эрато вместе с Терпсихорой!
— Это я уже осознал, почти сразу после той передачи неизвестные лица пытались вскрыть мою квартиру! Двое суток не мог выйти на улицу, — ответил Николай. — Вместе с полицией приехали журналисты, они, как гарпии пытались ворваться в квартиру и караулили под дверью, не позволяя шага спокойно ступить. А полицейские воспользовались моей ситуацией и устроили настоящий обыск, все перерыли, хотя сразу было понятно, что взломщикам не удалось проникнуть в квартиру.
— Я думаю, они отпечатки Игнатенко искали, чтобы объявить тебя заказчиком всего этого кошмара, — заметила дива. — А ничего странного не было?
— Ой, знаете, было много странного! – начал вспоминать танцовщик. — Я молчал и никому ничего не говорил. У меня на серванте оказались часы старинные с львиными лапками, но маленькие, не такие, какими я их себе представлял. Полицейские их не замечали, а часы потом оказались в спальне, а потом на кухне. Они начинали бить, как только я начинал слишком резко реагировать на вопросы полицейских.
— А потом? – спросила дива.
— А потом они исчезли! – ответил Николай. — Вы опять извините, я Гелю покушать устрою, она весь день не ела, похоже.
— Я уже тут подумала, Коля, — задумчиво сказала дива. — У тебя ведь в чем вопрос был? Почему об Игнатенко Каллиопа молчит?
— Ну, да, — смущенно засмеялся Николай. – По-человечески ее понять можно, выглядит это все ужасно. По телевизору на всех каналах крутят ролик, где Александр признается в покушении. Но, если она – муза, то должна понимать, что это тоже удар против самой нашей младшей музы, а она тоже достойна защиты.
— Как человек, Каллиопа вряд ли нам что-то должна, да, — заметила дива. — Но я тут, признаться, уже сделала несколько шагов со своей стороны. У меня в Праге живет ученик, бывший тенор театра, вдовец. Ему под шестьдесят, у него дом, иногда он выступает. Заставила его зарегистрироваться в социальных сетях, хоть в нашем возрасте это достаточно смелый шаг. Он наладил общение с Каллиопой.
— О! Вы предвосхитили мои мысли! – рассмеялся Николай. – И как тонко подобрали нашего посланника! Я заметил, что она к тенорам неравнодушна, причем, гораздо больше тяготеет именно к тенорам, чем к балетным премьерам.
— Конечно, я же женщина, — с удовольствием подтвердила Полигимния. – Человек он абсолютно свободный, полностью во власти ее очарования, постоянно приглашает ее в Прагу. Даже если она к нему не поедет, это же все равно приятно, милый пустячок. А главное, он передал ей мой вопрос о Саше Игнатенко. Она ответила, что у нее серьезные подозрения по поводу самого покушения, а уж о его причастности и говорить нечего. Про то, что его заставили признаться на камеру, не дав посоветоваться с адвокатом, я говорю с ее слов. Но она сказала, что ее защита не даст существенных результатов, если за Сашу не вступятся какие-то известные деятели искусств. Если этого не произойдет, то может потерять смысл и все сказанное ею раньше в твою защиту.
— Я подумал, что такой вопрос из Праги, мог как-то ограничить наше участие, — пояснил премьер. — Мы бы все повторили, как делали раньше.
— Ага, вошел во вкус? Это очень удобно, — грустно отозвалась Полигимния. – Сейчас уже не станешь говорить, будто не веришь в силу слова? Когда понимаешь, насколько оно нужное и спасительное, сразу забываешь все свое предыдущее недоверие. Но тут она думает о нашей защите, чтобы Игнатенко стал частью монолитной обороны, а не проломом в стене.
— Мне мои учителя всегда говорили, чтобы я никогда ничего подписывал, задумчиво ответил Николай. – Я никогда не подписывал никаких коллективных писем, которые вымогала администрация. Я твердо знал, что мой главный директор – Аполлон с нашей квадриги, а все остальное меня не касается. А сейчас вижу, что надо, наверно, последовать этому совету.
— Боюсь, Коля, это не совет, а приказ, — вздохнула Полигимния. – К тому же балетная труппа – это же дети, по сравнению с оперной. У нас голос раскрывается в полную силу к моменту вашей пенсии. Если его, конечно, раньше времени не сорвать. А детьми надо руководить. Так что успокой девочку, скажи ей, что мы поддержим ее Сашку. И давай прощаться, иначе она до дома не дойдет. Я уже чувствую, как все вокруг нагнетается.
— Вы знаете, а я это тоже чувствую! – признался Николай. – И мне начинает казаться, что если мы такое письмо напишем, сразу станет легче. Меньше станет выговоров чиновников по причинам, никак не связанным с профессиональной деятельностью.
— И это тоже! – подтвердила дива. – Да пора показать всем свое человеческое отношение. А там – будь что будет!
— Опять, правда, все начнут делать из меня злого гения, мол, я такой беспокойный, конфликтный, — расстроился премьер.
— Да, после письма ты уже не скажешь, будто если бы тебя оставили в покое, ты бы молчал, — усмехнулась дива. — Но не дают, да? Именно потому, что в некоторых случаях молчать – подло, Коленька! Ладно, прощаемся, мне уже тоже часы звонят. До завтра!
Премьер вышел на кухню, где увидел свернувшуюся на стуле Гелю. Она спала, всхлипывая во сне. Возле чашки с недопитым чаем лежал телефон. Он взял ее на руки, и отнес в спальню, укрыв почти невесомое тельце мягким пледом. Потом вернулся на кухню и перезвонил по телефону Гели, найдя в списке контактов «Мамочка».
— Анастасия Кирилловна, это Николай! – сказал он в трубку ответившей женщине. – Вы не волнуйтесь, Геля у меня, она спит.
— Николай Илларионович, что теперь будет с Гелей? – почти неживым голосом спросила она.
— Все остались живы, Анастасия Кирилловна, успокойтесь! – ответил Николай и понял, что пытается утешить мать Гели в точности так же, как строго обрывала все разговоры о затянувшемся вокруг кошмаре Каллиопа. – А пока мы все живы, мы будем держаться и оставаться людьми. Как-то так, да?
— Конечно, Николай Илларионович! – ответила женщина, и Николай почувствовал, что она действительно приобрела некоторую уверенность от его слов.
— Завтра Геля проснется и позвонит вам! Спокойной ночи!
— Спокойной ночи, спасибо вам! – растроганно ответила женщина.
В гостиной на серванте зазвонили часы. Николай тут же направился к ним, чтобы она своим боем не разбудили вконец измученную Гелю. Потом он удивился про себя тому, что у него в доме вообще бьют какие-то часы. Ему никогда не нравилась эта современная мода, распространившаяся вдруг в домах его знакомых, когда во всех комнатах неожиданно начинали звонить на разные лады часы, как в музее. Это всегда напоминало о времени, поэтому он всегда сворачивал свой визит, считая неприличным отрывать хозяев от более важных дел.
Уже входя в комнату, он понял, что полночь во всю мочь отбивают те самые часы, которые неожиданно появились у него в квартире во время обыска, а потом так же внезапно исчезли. Больше всего его поражало, как этим часам удается одновременно чесаться львиными лапками и точно отсчитывать секунды.
— Впрочем, меня уже сложно чем-нибудь удивить после сегодняшнего задержания Игнатенко, — сказал он вслух самому себе.
— А чо тут удивляться? – протикали часики какой-то блатной скороговоркой. – Подстава, она и в Африке подстава. Тут на все удивляться – удивлялки не хватит.
— Вы, собственно, кто или что? – строго спросил Николай, решив ни в коем случае не поддаваться никаким гнусным инсинуациям тех, кто решил ему при обыске подкинуть говорящие часы. – Если это прослушка, то я категорически протестую против вторжения в мою частную жизнь!
— Это не прослушка, это временная затычка, — в том же тоне ответили часы. – Сейчас к вам Подарга с Холодцом намереваются вторгнутся. Тогда от вашей частной жизни останется шиш да маленько. Ты меня совсем не помнишь, Николай? Пои их, корми… потом они кричат, будто я – прослушка и вторжение в частную жизнь. Хамство какое!
— Нет, это я категорически возражаю против вашего же хамства и ответственно заявляю, что не имею понятия о подаграх и холодцах, — решительно заявил Николай, но, вспомнив что-то из недавних встреч и разговоров, резко снизил тон. — Нет, о Холодце я слышал… Да, о Холодце я имею понятие…
— Ну, хоть что-то, — вздохнули часики. – Они сюда уже ломились в тот день, когда ты после передачи у Эрато взял больничный и нарочно в театр не пошел. Практически дверь твою открыли, но меня здесь Эвриале оставила звонить. Одного! Представь картину маслом! Живопись называется, если ты позабыл случайно. Дверь начинает открываться, за ней – кошмарные, деструктивные хтонические чудовища, а одинокие героические часики начинают бой… Просто зашибись!
— А в полиции заявили, что я все нарочно придумал, чтобы «попиариться», — заметил Николай, пожав плечами.
— Да, это было бы то еще пиарище, — отозвались часы. – Но полицию вызвал правильно, полицейские их спугнули, они ночи на верхней площадке ждали, Николай. Сейчас такая история началась, что каждый играет свою роль.
— А сейчас-то им что надо? – сорвался премьер.
— Сейчас им надо девчонку прикончить, — пояснили часы. – Она пока не муза, ее очень удобно именно сейчас и прикончить. Они ж не думали, что она за чаем заснет…
— Кстати, а почему она так резко уснула? – подозрительно поинтересовался Николай. – Она бы такого себе не позволила! Она – крепкая девочка, может выдержать четырехчасовой спектакль! Так-так… или как у вас говорят? «Тик-так»?
— Чуточку золотой пыльцы в чай – и крепкий сон хоть до финала всей трагедии обеспечен, — захихикали часики. – Веселитесь мухи с комарами! Судите меня, люди!
— Нет, это хамство какое-то, — заметил Николай. – А эта ваша Эвриале знает, чем вы занимаетесь? Вы же откровенно безобразничаете!
Вдруг в окна ударил настолько сильный порыв ветра, что зазвенели стекла, и сразу у нескольких машин во дворе включилась сигнализация.
 — Ну, все, прибыли! – прошептали часы. – Надо уносить ноги! Кстати, хорошо, что не струсил и устроил пресс-конференцию иностранным журналистам! У них выхода другого не было, они и не хотели напрямую брать интервью, влезать в скандал. Им Каллиопа сказала, что если с тобой что-то произойдет, то она опубликует переписку с «Нью-Йорк таймс» и «Вашингтон пост» и сообщит всем, что они ничего не сделали, хотя она вполне ясно обрисовала ситуацию. У тебя они тогда и взяли интервью после ее угрозы.
— Ну, все, прибыли! – прошептали часы. – Надо уносить ноги! Кстати, хорошо, что не струсил и устроил пресс-конференцию иностранным журналистам! У них выхода другого не было, они и не хотели напрямую брать интервью, влезать в скандал. Им Каллиопа сказала, что если с тобой что-то произойдет, то она опубликует переписку с «Нью-Йорк таймс» и «Вашингтон пост» и сообщит всем, что они ничего не сделали, хотя она вполне ясно обрисовала ситуацию. У тебя они тогда и взяли интервью после ее угрозы.
— А зачем она им угрожала? – таким же шепотом спросил Николай. – С меня подписку о неразглашении брали и в театре угрожали, но я все равно решился, потому что один корреспондент сказал, что им письма были от «мадам Огурцовой».
— Потому что вся эта карусель – исключительно в твою честь, Коля! – тихо протикали часики. — К тебе должны были явиться все пять гарпий. Одну на плечах должен был внести… ну, ты сам видел. И картина маслом для тебя ими рисовалась достаточно гадкой: ты должен был перерезать себе вены в ванной, оставив записку, как ты раскаиваешься, что приказал своим подручным совершить ужасную месть над своим художественным руководителем. А сейчас, если мы срочно отсюда не улизнем, в ванной ты можешь оказаться вместе с Талией. Вот это будет феноменальное хамство! Прижмурься!
Николай послушно зажмурился, потому что ему и в самом деле становилось страшно и тоскливо. В комнате поползли тени, стало настолько зябко, что изо рта у него шел пар. Но ему уже не было дела до пронизывающего холода, до странных часов, с которыми он разговаривал. Ему показалась странной вся его жизнь, непрестанная работа над каждым движением, диеты, классы, репетиции… он уже не понимал, зачем это все было? Что он хотел кому-то доказать? Разве можно тронуть человеческое сердце музыкой, движением или словом? Его душу понемногу заковывало льдом, он медленно погружался в невыносимую тоску, потому что всем его надеждам не суждено было сбыться, его желания всегда были жалкими и глупыми, а жизнь не имела больше никакого смысла…
— Сюрприз! – обдало его вдруг чьим-то жарким соленым дыханием. – Просыпайтесь, маркиз!
Он с трудом открыл глаза, потому что вокруг невыносимо ярко светило солнце. Он сидел в домашнем халате на теплом песке. От набегавших волн намокал тапок на правой ноге, второй – уже качался на волнах, уплывая в открытое лазурное море.
— Ой, а что это такое? – услышал он знакомый голос позади себя.
 Обернувшись, он увидел Гелю, с головою обмотанную шерстяным пледом. Она телепортировалась менее удачно, оказавшись по пояс в воде. Напротив нее осторожно пробовали воду львиной лапкой часы в милой соломенной шляпке с развевающимися розовыми лентами.
Обернувшись, он увидел Гелю, с головою обмотанную шерстяным пледом. Она телепортировалась менее удачно, оказавшись по пояс в воде. Напротив нее осторожно пробовали воду львиной лапкой часы в милой соломенной шляпке с развевающимися розовыми лентами.
— Теплая! – удовлетворенно протикали часы.
— Где это мы, Николай Илларионович? – спросила его Геля. – Это такой сон, да?
— И правда, где это мы? – требовательно поинтересовался он у часов.
— На краю света! – торжественно пробили часы.
— Я только не понял, почему нельзя было сразу нас телепортировать, если вы обладаете такими возможностями? – выразил недовольство Николай. – Вы же видите, Геля замерзала! А со мной начали происходить какие-то ужасные вещи…
— Хамские? – уточнили часы. – Считайте, что надо было подманить их поближе. И приманкой выступали вы с Талией. Ну, не надо меня буровить вашим фирменным королевским взглядом! Мне приказано было Сфейно дожидаться. У них сейчас в вашей квартире происходит разговор по душам, если можно так выразиться. Или о душах, неважно.
— И что в результате останется от моей квартиры? – несколько сварливо поинтересовался Николай.
— От твоей квартиры? – искренне удивились часы. – Я думал, ты знаешь… Твоя квартира – это мусейон, жилище музы. Если прочесть древний орфический гимн, обладая силой, ловушка захлопнется, мой дорогой. Ничего с твоей квартирой не будет, но все там спокойно смогут договориться, потому что те, кто решил попрать справедливость, лишаются в мусейоне своей силы. Как два пальца об асфальт. Ферштейн?
— А мне можно купаться, Николай Илларионович? – спросила Геля, плескаясь водой.
— А ты разве не купаешься? – отмахнулся от нее Николай. – Купайся вволю, загорай, завтра будет трудный день!
— Мне просыпаться не хочется, — беспомощно отозвалась она.
— Придется проснуться, нам завтра надо собрать подписи в защиту твоего Саши, — серьезно ответил он.
— Правда? – счастливо улыбаясь, спросила Геля. – Тогда я непременно проснусь! Это просто здорово!
Она побежала по отмели, с силой топая по воде маленькими ножками. От нее во все стороны полетели теплые радужные брызги.
— Хамство какое! – сказали часы, прикрываясь шляпой от долетевших до них брызг.
— А о чьих душах пойдет речь? – спросил Николай, задумчиво глядя на полоску горизонта, где небо сливалось с морем.
— О тех, кто причинял музе душевную боль, — ответили часы, присаживаясь рядом. – Они уже променяли свою душу, получив за нее все, что хотели. Вернее, люди всегда думают, будто расплачиваются чужой душой, не понимая, что этого им не дано, у них есть только один обол, хотя им кажется, будто весь мир придуман только для них.
— Как нам сейчас? – спросил Николай, блаженно растягиваясь на песке.
— Нет, не так, — захихикали часы. — Мы сейчас сливаемся с миром, чувствуем его совершенство. Нам вполне этого достаточно, пока душа отходит от леденящего холода страха. А потом нас охватывает желание сделать мир еще лучше, оставить в нем частичку себя.
— Звучит банально, — с горечью заметил Николай.
— Зато верно по сути, — откликнулись часики. — А те, о чьих душах сейчас идет речь в твоей квартире, они хотят весь мир заключить в пределах своей власти, сжать время. Мне всегда больно находиться возле них, они пытаются остановить время.
— Зачем им тогда души? – удивился Николай. – Я думал, что они делают все это… ну, когда уже у них совсем нет души.
— Нет, они ее сами заставляют молчать, — возразили часы. — Находят всякие оправдания, объяснения. Это сложный вопрос, хтонический. Человек вообще-то сам отделяет от себя собственную душу. Но Холодцу и гарпиям это не всегда выгодно, они бы предпочли, чтобы люди жили в таком… полу бездушном состоянии. Когда от человека остается одна оболочка без души, он тоже становится абсолютно… непригодным. Делает какие-то поступки, которые выдают его с головой. И гарпии им помочь не могут, они сами… какие-то стихийные, незавершенные. От полностью лишенных души начинают сторониться даже те, кто над своей душой уже проделал необратимые вещи.
— Почему? – почти риторически воскликнул Николай, наблюдая за облаками
— А ты вспомни те ощущения, когда в квартиру поднимался Холодец со свитой, а мы сидели и ждали, когда они подойдут поближе, — напомнили ему часы. — Это было то еще хамство, верно?
— Это было ужасно, — передернул плечами Николай. – Я, кстати, вспомнил эти ощущения, у меня с момента этого нападения на нашего худрука несколько раз такое накатывало. Потом я читал статью Каллиопы, и этот холод рассеивался. Становилось легче.
— Правда, что когда ее читаешь, слышишь канонаду, будто ты в окружении, а кто-то к тебе прорывается с боями? – с восторгом спросили часы.
— Правда, — согласно кивнул Николай. – Но это ощущение, когда душа леденеет…
— А сейчас здесь будет самый красивый закат! – невпопад сообщили часы. — Поэтому мы сейчас мы передислоцируемся по линии фронта во-он к тому чудесному местечку.
Николай обернулся в сторону, куда показывали часы, и увидел голых по пояс чернокожих людей в белых шароварах, накрывавших стол под белоснежным пологом, колыхавшимся под теплым бризом.
— Мне даже удивляться не стоит, это всего лишь сон! – в растерянности сказал он.
— А мог бы и удивиться хотя бы для приличия, — обиделись часы, поправляя шляпку. – Восемь чернокожих рабов-нубийцев доставили изысканные яства со стола султана Бахрейна, но мы не удивляемся! А что тут такого? Подумаешь, какой пустячок! А вот когда Сашку Игнатенко в кутузку садят, а он в телике признается, будто худрука заказал бомжу из Подмосковья за три тысячи рублей, тут мы удивляемся из последних сил! Это я, собственно, к извечному вопросу о хамстве.
Ответить Николай не успел, потому что на дразнящие запахи, источаемые барашком на вертеле с горными травами, шашлыками, восточными сладостями и какими-то диковинными блюдами с маринованными морепродуктами — уже мчалась с радостными визгами мокрая Геля. За собой она волочила плед, окончательно превратившийся в скатавшуюся тряпку.
— Между прочим, я этот плед в Лондоне покупал, — с укоризной в голосе заметил Николай.
— Между прочим, ты его на британских авиалиниях спер, — ответили ему часы. – Тебе для ребенка пледа жалко? Давайте, я вас к ужину переодену, чтобы вы из-за этого комка грязной шерсти не поссорились!
 На ошеломленной Геле оказались шелковые шальвары, вышитые серебряной нитью войлочные полусапожки, прозрачное сари и килограмма полтора золотых украшений с цветными бриллиантами. Головку украсила остроугольная шапочка, усыпанная жемчугом, на острие которой красовалось пушистое страусовое перо. Николай оказался в белоснежном костюме султана из фильмов-сказок, на каждом пальце у него оказалось по драгоценному перстню.
На ошеломленной Геле оказались шелковые шальвары, вышитые серебряной нитью войлочные полусапожки, прозрачное сари и килограмма полтора золотых украшений с цветными бриллиантами. Головку украсила остроугольная шапочка, усыпанная жемчугом, на острие которой красовалось пушистое страусовое перо. Николай оказался в белоснежном костюме султана из фильмов-сказок, на каждом пальце у него оказалось по драгоценному перстню.
— Все перстни волшебные, на что попало желания не трать! – предупредили его часы, устраиваясь за столом, где стояло четыре стула.
— А можно мне этот костюм себе оставить? Мне его Саше показать хочется, — наивно поинтересовалась Геля, явно не догадываясь, что прилагавшиеся к костюму бриллианты были вовсе не стразами Сваровски.
— Конечно, все вам и останется, — захихикали часы, видя, что Николай испытывает неловкость от бестактности своей неопытной ученицы. – Расслабляемся, релаксируемся, все оставляем себе! Да расслабься ты, Коля! Эти вещи хозяева назад уже не попросят! Они им уже ни к чему. Вы оставляете людям куда более ценные вещи – прекрасные ощущения от жизни. Это то, что они могут унести с собой! Слыхал, выражение про материальные ценности, которые типа никому не достались? «Их поглотило Время!» Это как раз наш случай. Вот что захотим, то и поглотим! Хотите рабов себе оставить?
— Нет, у нас для рабства нет подходящих жилищных условий, — почти равнодушно ответил Николай, глядя, как рабы ловко сервируют стол для горячих блюд. – Вы нас, пожалуйста, рабством не развращайте! Мы и так страдаем от развратных типов, вообразивших себя султанами Бахрейна. Мы не рабы – рабы не мы!
Четвертый стул, украшенный вышитыми подушками с шелковыми кистями, так и оставался свободным. Вначале Николай с напряжением ждал очередного сюрприза, вернее, с нетерпением ждал Эвриале. Потом под влиянием вкусной еды, предупредительно подаваемой самыми лучшими кусочками чернокожими улыбающимися людьми, он помимо своей воли настраивался на все более беззаботный и даже бесшабашный лад, втайне немного жалея, что его не видят сейчас те корреспонденты отечественных СМИ, которые любят описывать его «светские тусовки».
Огромное солнце, переливаясь немыслимыми оттенками золотого, розового и алого, медленно опустилось прямо в море. Часики щелкнули львиной ножкой, и чернокожие люди с белозубыми улыбками завели патефон. По всему пляжу разнеслись звуки старинного танго про утомленное солнце, которое нежно прощалось с морем. Начало быстро темнеть, но над шатром зажглись разноцветные бумажные фонарики, покачиваясь на ветру.
-Я такое видела в Италии, когда по молодежной программе туда выезжала, — нарушила блаженное молчание Геля. – Но у нас тогда денег не было. И нас все равно бы туда не пустили, наверно.
— Цыган позвать, что ли? – лениво откликнулись часики. – Но эти цыгане потом привяжутся, прилипнут, начнут повсюду за нами бегать с симками для телефонов, гитарами и цветными юбками… Нет, обойдемся на этот раз без цыган. Тяжело нам будет, конечно без цыган, особенно первое время, но мы…
— Нет, какие цыгане? Ведь обо всем заранее договорились! – раздался возмущенный женский голос, и Николай с замиранием сердца увидел, что на незанятом стуле с вышитыми подушками появилась Эвриале. – Почему нет танцпола с филармоническим оркестром? Патефон… цыгане… еще бы самодеятельный хор какого-нибудь сельпо пригласил – с песней про родного Ленина, который «всегда с тобой».
— Леннона? – подобострастно переспросили часики, явно не расслышавшие последней фразы Эвриале. – Да прямо щазз, какие проблемы, мин херц?
Николай повернул голову и увидел, что все рабы, бросившие свои прямые обязанности, сгрудились у импровизированной сцены, где зажигали совсем молодые и еще никому неизвестные парни из «ливерпульской четверки». Геля с визгом побежала по направлению сцены, над ее головкой подрагивало большое белое перо.
— Коленька, — здравствуй! – повернулась Эвриале к Николаю с улыбкой, доставая хрустальный флакон. – Вот девочку вашу сейчас окончательно превратим в музу комедии и легкой поэзии. Талия, «Цветущая» — это про нее!
— А как-то раньше это сделать было нельзя? – проворчал Николай. — Девчонка сегодня пережила такой ужас! Просто ужас-ужас-ужас! У них обыски были, потом ее любимого человека в тюрьму отвезли, а ее на улицу выгнали… Она веселится, потому что думает, что это такой сон. Где еще такое можно увидеть?
— Да, такое можно увидеть только во снах, хранящих душу, — подтвердила Эвриале. – Когда-то у людей все сны были именно такими, моя младшая сестра преграждала путь ночным страхам. Но ты зря переживаешь за свою младшую сестру! Вообще, что такое комедия? Она дает возможность посмотреть на себя со стороны, чтобы, в конце концов, посмеяться над своими ошибками, а не возводить их в «мудрость нашей жизни». Смех намного опаснее для всех страхов, потому и Каллиопа обладает нынче необычайно сильным даром смешного, на грани с фарсом. Ничего не поделаешь, комедия — это школа жизни, и мы, играя свои роли, можем извлечь уроки, которые приведут нас к скрытой в нашей душе сути. Посмотри! Эта девочка после пережитого ею — даст возможность познать истинную цену комедии и улыбки.
— Не знаю, пожал плечами Николай. – Я привык относиться к комическому жанру…
— Пренебрежительно? – догадалась Эвриале. – Асклепий, сын Аполлона, которого вы знаете как Эскулапа, говорил, что до ножа хирурга человек должен попробовать излечиться трагедией и лекарственными травами. Но после хирургического вмешательства поставить на ноги его может только комедия! Только несчастный человек навсегда остается без тени улыбки на лице.
— Мне казалось, что древние говорили «В здоровом теле – здоровый дух!» — с долей сарказма ответил Николай.
— Но они хорошо знали, что все болезни начинаются с тоски и холода, проникающих в душу, — невозмутимо ответила Эвриале. – У Асклепия был трактат, описывающий этапы лечения, он состоял из трех глав, посвященных целебному действию трагедии, лечению травами и гомеопатии, а только последней шла глава о хирургии. Если душа оказывалась уже глухой к трагедии, он считал, что и лечение тела во многом становится бессмысленным. Болезнь приходит к тем, кто не имел дара божественного катарсиса трагедии. На сопереживании душа человека становится чище… Но Мельпомена и Талия – две музы, увенчанные виноградными листьями, они ближе всех к культу Диониса, прорывавшемуся в бесчинствах вакханок. Перед закатом Римской империи, при становлении христианства с этим культом боролись на государственном уровне. В стихийных плясках с полуголыми вакханками и мужчинами, изображавшими сатиров, которые символизировали сатирическое отношение к самим себе, — отогревались человеческие души, из них уходили страх и тоска. Комедия и трагедия шли рука об руку в этих немыслимых шествиях. Когда считалось, что вакханок нельзя тронуть, иначе отомстит Дионис. И вся эта мощная культура начала стремительно катиться к своему закату, как только законодательно было разрешено казнить на месте любую вакханку, каждого, кто станет представлять сатира перед толпой.
— Но ведь вакхические традиции …это, наверно, немножко бескультурье, — осторожно заметил Николай.
— Рассуждаешь сейчас, как Холодец! Он всегда подчеркивал свою близость к «искусствам и ремеслам», имея, прежде всего, в виду ювелирное искусство, несколько пережимая его сомнительную «элитарность», — улыбнулась Эвриале. – Ты же понимаешь, что это – всего лишь снобизм глухого душой нувориша, старающегося определить всему цену. Поэтому и все виды изобразительных искусства раньше относили всего лишь к ремеслам. Искусством в античности считалось то, в результате чего возникал нетленный нерукотворный образ и запечатлевался в душах, делая их по-настоящему богаче, полнее. А такого рода вещи должны пройти испытание временем.
Они посмотрели на стул, где только что восседали часы, но стул был пуст, а часики тряслись на бронзовых львиных ножках под шейк возле Гели. Она что-то радостно орала и запрокидывала стройные ножки в костюме из балета «Баядерка».
— Аполлон при этом осуществлял связь этого художественного образа с небом, а Дионис придавал ему страсть и связь с землей, — продолжила Эвриале. — И эту связь воплощали Мельпомена и Талия с венками плюща на голове. Вместе вы олицетворяете театр жизни, жизненный опыт. И сегодняшний сон у моря – это та маленькая награда за то, что вам приходится пережить, чтобы соединить в себе небо и землю.
— А это… важно? – спросил Николай, в душе которого кольнули не растаявшие до конца острые льдинки ночных страхов.
— Коленька, это всегда было крайне необходимо! – засмеялась Эвриале. — Не верь этим сомнениям, они от абсолютно бесчувственного Холодца, от его зависти ко всем живым, способным в своей душе сотворить целый мир. Ты даже не знаешь, до какой степени он завидует даже возможности испытывать душевную боль, не говоря о более высоких и сладостных чувствах! Вы говорите о них вместе с Талией, олицетворяющей любовь ко всему сущему, саму юность жизни! Веселись, пока молод, познавай жизнь и люби ее – когда придет зрелость!
 К столу подбежала абсолютно счастливая Геля, закатывающаяся почти безумным хохотом, одной рукой она схватила деревянный шампур с источавшим сладостные ароматы шашлыком, а другой – вцепилась Николаю за руку и повлекла за собой к шелестевшему темному морю, отливавшему бирюзой. Там «битлы» в закатанных до колен черных брюках исполняли свои старые хиты. Эти песни слушала когда-то его мама на заграничных пластинках, которые раньше вместо симок продавали на рынках цыгане вместе с помадой и тенями для век. Краем глаза он увидел, как улыбавшаяся своим мыслям Эвриале щелкнула ногтем по хрустальному флакону Талии – и в нем неистовой силой заклубился золотой песок.
К столу подбежала абсолютно счастливая Геля, закатывающаяся почти безумным хохотом, одной рукой она схватила деревянный шампур с источавшим сладостные ароматы шашлыком, а другой – вцепилась Николаю за руку и повлекла за собой к шелестевшему темному морю, отливавшему бирюзой. Там «битлы» в закатанных до колен черных брюках исполняли свои старые хиты. Эти песни слушала когда-то его мама на заграничных пластинках, которые раньше вместо симок продавали на рынках цыгане вместе с помадой и тенями для век. Краем глаза он увидел, как улыбавшаяся своим мыслям Эвриале щелкнула ногтем по хрустальному флакону Талии – и в нем неистовой силой заклубился золотой песок.
Продолжение следует