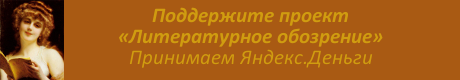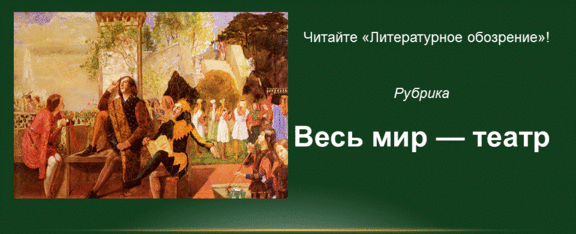Наверное нужно перечитывать «хрестоматийные» вещи. С возрастом и приобретением житейского опыта, они «выглядят» иначе. Почти «натурный эксперимент».
 Свою тогда еще маленькую дочь я отвозила к тетушке в деревню. Возвращаюсь домой на проходящем поезде и разговариваюсь с милой девушкой. Она учится на филологическом, умница, красавица, воспитана, доброжелательна. Рассказывает о своих опытах в журналистике.
Свою тогда еще маленькую дочь я отвозила к тетушке в деревню. Возвращаюсь домой на проходящем поезде и разговариваюсь с милой девушкой. Она учится на филологическом, умница, красавица, воспитана, доброжелательна. Рассказывает о своих опытах в журналистике.
Каким-то образом перешли к обсуждению романа «Анна Каренина». Выяснилось, что собеседница недавно напиcала по нему работу, а я тоже недавно перечитала. Впечатления у обеих были еще свежи.
Должна заметить, что было поздно. Пассажиры улеглись, а нам оставалось быть в поезде от силы пару часов. Вдобавок, увлеченно беседуя, не заметили, как все утихомирились, и не контролировали силу своего голоса… До сих пор теряюсь в догадках, почему нам не сделали замечания, неужто наш диалог никого не раздражал? …
Так вот, о романе. Когда я стала делиться своими впечатлениями, будучи молодой мамой и уже имея опыт семейной жизни, для в общем-то юной девушки мой рассказ звучал, как что-то неведомое. Она этих вещей в книге просто не заметила.
Оказывается, тогда уже соблюдался карантин. На время болезни Долли закрывалась в доме и не выезжала.
«Кити настояла на своем и переехала к сестре и всю скарлатину, которая действительно пришла, ухаживала за детьми. Обе сестры благополучно выходили всех шестерых детей, но здоровье Кити не поправилось. и великим постом Щербацкие уехали за границу.»
Красноречивы бытовые неурядицы в деревне. Куда выбралась на лето Долли.
«На другой день по их приезде пошел проливной дождь, и ночью потекло в коридоре и в детской, так что кроватки перенесли в гостиную. Кухарки людской не было; из девяти коров оказались, по словам скотницы, одни тельные, другие первым теленком, третьи стары, четвертые тугосиси; ни масла, ни молока даже детям недоставало. Яиц не было. Курицу нельзя было достать; жарили и варили старых, лиловых, жилистых петухов. Нельзя было достать баб, чтобы вымыть полы, — все были на картошках. Кататься нельзя было, потому что одна лошадь заминалась и рвала в дышле. Купаться было негде, — весь берег реки был истоптан скотиной и открыт с дороги; даже гулять нельзя было ходить, потому что скотина входила в сад через сломанный забор, и был один страшный бык, который ревел и потому, должно быть, бодался. Шкафов для платья не было. Какие были, те не закрывались и сами открывались, когда проходили мимо их. Чугунов и корчаг не было; котла для прачечной и даже гладильной доски для девичьей не было.»
Усилиями няни все же деревенская жизнь была обустроена и Долли наслаждалась общением с детьми.
«Хотя и хлопотливо было смотреть за всеми детьми и останавливать их шалости, хотя и трудно было вспомнить и не перепутать все эти чулочки, панталончики, башмачки с разных ног и развязывать, расстегивать и завязывать тесемочки и пуговки, Д
арья Александровна, сама для себя любившая всегда купанье, считавшая его полезным для детей, ничем так не наслаждалась, как этим купаньем со всеми детьми. Перебирать все эти пухленькие ножки, натягивая на них чулочки, брать в руки и окунать эти голенькие тельца и слышать то радостные, то испуганные визги; видеть эти задыхающиеся, с открытыми, испуганными и веселыми глазами лица, этих брызгающихся своих херувимчиков было для нее большое наслаждение.»
Противоречивые чувства испытала Долли посетив Анну и Вронского в его имении после их приезда из-за границы. Богатство и роскошь угнетали, умение вести хозяйство вызывало уважение, отношение матери к собственному ребенку неприятно поражало.
«Пришедшая предложить свои услуги франтиха-горничная, в прическе и платье моднее, чем у Долли, была такая же новая и дорогая, как и вся комната. Дарье Александровне были приятны ее учтивость, опрятность и услужливость, но было неловко с ней; было совестно пред ней за свою, как на беду, по ошибке уложенную ей заплатанную кофточку. Ей стыдно было за те самые заплатки и заштопанные места, которыми она так гордилась дома. Дома было ясно, что на шесть кофточек нужно было двадцать четыре аршина нансуку по шестьдесят пять копеек, что составляло больше пятнадцати рублей, кроме отделки и работы, и эти пятнадцать рублей были выгаданы. Но пред горничной было не то что стыдно, а неловко.»
«В детской роскошь, которая во всем доме поражала Дарью Александровну, еще более поразила ее. Тут были и тележечки, выписанные из Англии, и инструменты для обучения ходить, и нарочно устроенный диван вроде бильярда, для ползания, и качалки, и ванны особенные, новые. Все это было английское, прочное и добротное и, очевидно, очень дорогое. Комната была большая, очень высокая и светлая.»
«Кроме того, тотчас же по нескольким словам Дарья Александровна поняла, что Анна, кормилица, нянька и ребенок не сжились вместе и что посещение матерью было дело необычайное. Анна хотела достать девочке ее игрушку и не могла найти ее.
Удивительнее же всего было то, что на вопрос о том, сколько у ней зубов, Анна ошиблась и совсем не знала про два последние зуба.»
«Обед, столовая, посуда, прислуга, вино и кушанье не только соответствовали общему тону новой роскоши дома, но, казалось, были еще роскошнее и новее всего. Дарья Александровна наблюдала эту новую для себя роскошь и, как хозяйка, ведущая дом, — хотя и не надеясь ничего из всего виденного применить к своему дому, так это все по роскоши было далеко выше ее образа жизни, — невольно вникала во все подробности и задавала себе вопрос, кто и как это все сделал. … много людей, которых она знала, никогда не думали об этом и верили на слово тому, что всякий порядочный хозяин желает дать почувствовать своим гостям, именно, что все, что так хорошо у него устроено, не стоило ему, хозяину, никакого труда, а сделалось само собой. Дарья же Александровна знала, что само собой не бывает даже кашки к завтраку детям и что потому при таком сложном и прекрасном устройстве должно было быть положено чье-нибудь усиленное внимание. И по взгляду Алексея Кирилловича, как он оглядел стол, и как сделал знак головой дворецкому, и как предложил Дарье Александровне выбор между ботвиньей и супом, она поняла, что все делается и поддерживается заботами самого хозяина.»
Конечно же, все эти бытовые мелочи, читая роман в школе, я не «замечала», как и моя милая спутница. Но вот этот момент я запомнила еще тогда:
«Дарья Александровна причесывалась и одевалась с заботой и волнением.
Прежде она одевалась для себя, чтобы быть красивой и нравиться; потом, чем больше она старелась, тем неприятнее ей становилось одеваться; она видела, как она подурнела. Но теперь она опять одевалась с удовольствием и волнением. Теперь она одевалась не для себя, не для своей красоты, а для того, чтоб она, как мать этих прелестей, не испортила общего впечатления. И, посмотревшись в последний раз в зеркало, она осталась довольна собой. Она была хороша. Не так хороша, как она, бывало, хотела быть хороша на бале, но хороша для той цели, которую она теперь имела в виду.»
Вспоминая школьные годы (в программе романа не было), но по привычке читать рецензии перед написанием сочинений, в нее я тоже заглянула. В ней и в других обсуждениях романа, фильмов и спектаклей (обычно в телевизионных и радиопередачах) звучала одна мысль. С ней же я столкнулась и читая сейчас в интернете отзывы читателей. Звучит она приблизительно так:
«Ее идеал — любовь бескомпромиссная, а убедившись, что для нее нет надежды на такое чувство, не видя смысла в жизни, она покончила с собой.» (Ирина Васильева)
Нет, я может, черствая, циничная etc. Но Анне, вообще-то, за тридцать. И сейчас весьма взрослое создание, а по тем временам более чем зрелая личность. У нее есть дети, одного она определенно любит без памяти. У нее сложные взаимоотношения со светом, но не все ее бросили. Она любит и любима, но наступил период «буден». Упоительная поездка за границу завершилась, эйфория прошла, надо было обустраивать свою обычную жизнь. Вронский этим деятельно занялся. А вот Анна …
В период метаний между Вронским и Карениным она не смогла получить развод. Сама процедура очень сложна и настроение мужа переменилось. За него Анна вышла в молодости, своего состояния не было, зато супруг обеспечил ей достойнейшее положение в обществе и благополучие. Да, она его как-бы не замечает. По тексту постоянно отмечается простота ее туалетов, но та же Долли прекрасно осознает стоимость такой простоты. Вронский тоже не беден. Сравним, Стива может в любое время получить место на 6 000, а Алексей вынужден ужиматься, когда вместо 45 000 у него осталось 25 000.
Наша же героиня на грани нервного срыва, боящаяся, что мать Вронского сосватает ему другую, и для успокоения принимает морфий (тогда не знали о его наркотических свойствах), что тоже не способствует здравомыслию. Почему? Что ее так гложет? Она боится потерять Вронского до истерии, до исступления. У нее под ногами бездна, ей не на что самостоятельно жить, жить достойно, как она привыкла. У нее нет почвы для проявления достоинства.
P.S. Экранизация литературного произведения, помимо того, что является визуализацией, очевидно является же и интерпретацией. Вроде бы, «старые советские» мастера старались это делать, бережно относясь к тексту первоисточника, но бывали и «досадные» исключения.
После фильма пребывала в полной уверенности, что классику принадлежит фраза: «Не знаю, как платье, но бантик определенно хорош» (Долли хвалит платье Китти перед балом).
А оказывается, что в романе речь шла о бархатке:
«Черная бархатка медальона особенно нежно окружила шею. Бархатка эта была прелесть, и дома, глядя в зеркало на свою шею, Кити чувствовала, что эта бархатка говорила. Во всем другом могло еще быть сомненье, но бархатка была прелесть.»