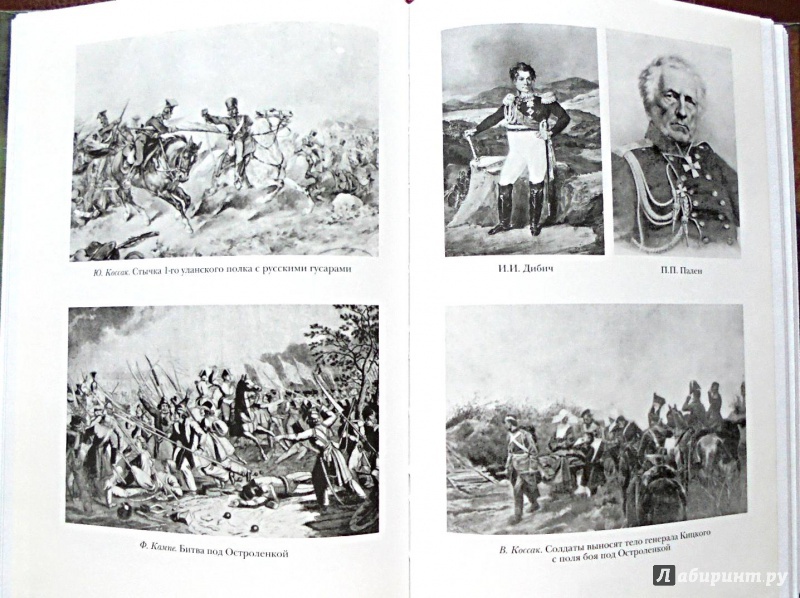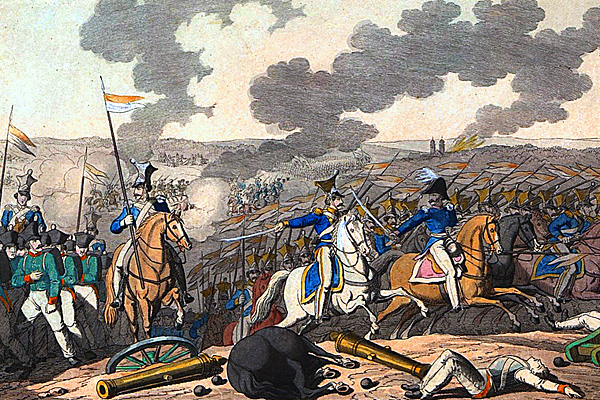Денис Давыдов
Записки Дениса Васильевича Давыдова, в России цензурой непропущенные
Глава четвертая
Воспоминания о Польской войне 1831 года
Мы часто и поныне слышим порицания России за долговременную борьбу её с Польшею, обладающею средствами, столь много уступающими средствам России. И подлинно, нельзя не удивляться, как, немедленно по восстании Польши, 54-х миллионному народонаселению не покорить было четырехмиллионное народонаселение, или армии, состоящей почти из миллиона воинов, не победить армию, едва состоявшую из тридцати тысяч человек. Задачу сию решают расстояние и время. При внимательном и чуждом пристрастия рассмотрении, мы видим, что царство Польское, заключенное в тесных пределах, имело все военные средства свои под рукою, следовательно было готово в военным действиям вскоре по выступлении войск наших из царства; тогда как Россия, обладая несравненно большими способами, занимает пространство несравненно обширнейшее, по коему способы эти рассеяны. Нескольких недель достаточно было для польского народного правления, чтобы сплавить в единый слиток все свои силы, или по крайней мере большую часть их; Россия же нуждалась по крайней мере в двухмесячном сроке, чтобы сосредоточить на границах царства небольшую часть своих военных сил и все необходимые для ведения войны принадлежности. Словом, говоря языком военным, в продолжении двух с лишком месяцев, это царство в отношении в России могло уподобиться сильной колонне войск, готовой ударить на средину армии в двадцать раз сильнейшей, но чрезмерно растянутой, следовательно не представляющей достаточной силы для отпора неприятеля, могущего избрать одну лишь точку для натиска. И действительно, этот неожиданный мятеж застал армию нашу, частью едва возвратившуюся в Россию после двухлетнего гибельного пребывания своего в краю, изобилующем всеми родами болезней, не выносимых северными жителями, где они погибали тысячами от чумной заразы.[26] Те войска, которые из Турции пришли уже на места свои, заняты были необходимым устройством всех частей, расстроенных продолжительным и изнурительным походом, укомплектованием себя рекрутами, ремонтами молодых лошадей и вообще всеми необходимыми потребностями. Сверх того расстояние от театра действий, как этих войск, так и тех, кои не участвовали в турецкой войне, было чрезмерно велико. Некоторые полки получили повеление выступить в поход из окрестностей Петербурга, Москвы, Орла, Харькова, Херсона и даже в самый развал зимы, всегда неблагоприятной и затрудняющей перемещение всякого рода войск, особенно артиллерии и тяжестей. Вот причина двухмесячной отсрочки в потушении мятежа польского. Мы далее увидим, что не от недостатка ревности и врожденной неустрашимости наших войск, как то старались разглашать по Европе враги России, не от недостатка в съестных подвозах или в боевых предметах и в прочих потребностях, необходимых для военного действия, коих было весьма достаточно и даже изобильно, продолжалась борьба эта семь месяцев.
С прискорбием должен я сказать здесь, что единственным виновником продолжения войны был сам генерал-фельдмаршал, граф Дибич-Забалканский, главнокомандующий нашею армиею. Клеймо проклятия горит на его памяти в душе каждого русского, кто бы он ни был, — друг ли его или человек, им облагодетельствованный, если только честь и польза отечества дороже для него всех частных связей и отношений.
Дибич был для меня человеком решительно чуждым, в которому я никогда не питал особенного сочувствия, но я должен сказать, что он не был человеком злым и безусловно вредным. Невзирая на чрезмерную запальчивость своего характера, он был одарен добрым сердцем и некоторым военным благородством, весьма помутившимся на поверхности от долговременного пребывания при дворе, но в глубине еще ясным и чистым. Вот почему я, скрепя сердце, о нём упоминаю, — и будь он, — он один жертвою своих проступков, я конечно умолчал бы о человеке, обладавшем некоторыми блистательными качествами; но проступки его отразились на девственной чести и славе невинного в них российского воинства, и тут уже в душе моей никому нет пощады. Да, — Дибич есть единственный оскорбитель гордости народа русского, единственный оскорбитель чести, славы и оружия богатырской нашей армии: недовершением победы под Гроховым, нелепостью последующих предначертаний и действиями ощупью во всех предприятиях, потерей духа и разума во всех затруднительных обстоятельствах, а главное-принятием на себя в столь важную эпоху обязанности выше сил, он во всём этом не только виновен, но даже великий преступник.
Я знал Дибича с офицерского чина. Служа в кавалергардском, а он в семеновском полку, мы в одних чинах стаивали вместе во внутренних караулах и потому часто находились неразлучно, по целым суткам, с глазу на глаз. Потом мы были оба подполковниками в отечественную войну 1812 года, и когда, три года после, он возведен был на степень начальника главного штаба 1-й армии, я был в той же армии начальником штаба 3-го пехотного корпуса; что доставило мне случай иметь с ним непосредственные и довольно частые сношения по службе; наконец он вознесся еще выше и я уже потерял его из виду. Я помню, что в кавалергардской зале у камина, он неоднократно рассказывал мне, как за два года пред тем он был привезен из Берлинского кадетского корпуса в Петербург совершенным неучем, и как он сам собою получил кое о чём весьма поверхностные сведения относительно военной науки. Он жаловался на бедность своего состояния, не позволявшего ему нанимать учителей и покупать военные книги, которые все почти были с планами и картами, и потому стоили не дешево. Я был в том же положении, следовательно мы друг друга понимали, и, вместе горюя, прихлебывали у камина жиденький кофе; другими напитками мы еще не занимались. В то время жил в Петербурге некто Торри, майор генерального штаба, хвастун, пустослов и человек весьма ограниченных сведений, но пользовавшийся репутациею ученого по своей части, потому что часть эта была в то время скудна в знающих ремесло свое чиновниках, Торри рассказывал всем и каждому о службе своей при маршале Бертье, в главном штабе Бонапарта; этого было довольно чтобы считать его едва ли не четверть Бонапартом, относительно сведений и дарований.
Не помню при каких обстоятельствах, Дибич и я, скопив небольшой капитал, стали брать каждый на своей квартире в продолжении нескольких месяцев уроки у Торри; собираясь во время караулов, мы друг другу отдавали взаимно отчет в оказанных успехах. В то же время и у того же Торри, брали уроки граф Михаил Воронцов, служивший тогда поручиком в Преображенском полку и князь Михаил Голицын, служивший в семеновском полку и убитый в 1807 году под Ландсбергом.
Вскоре наступили Наполеоновские войны; раскрылась другого рода книга и другого рода Торри явился с суровой ферулой наставника. В 1805 году под Аустерлицем Дибич сражался подобно всем своим товарищам семеновского полка и запечатлел кровью благородный порыв своей храбрости.
В 1807 году, по прибытии гвардии на театр военных действий в Восточную Пруссию, — Дибич из семеновского полка был приписан на время кампании к генеральному штабу гвардии. Я полагаю, что в течении трехмесячного похода, он приобрел несколько практического навыка по этой части: что же касается до теоретических сведений в военной науке, то он после Торри ни у кого уже не учился. Были слухи, что он брал уроки и у генерала Фуля; если это правда, то в этом случае можно выворотить наизнанку русскую пословицу и сказать: неученье свет, а ученье тьма; но я этому не верю. Вот всё, что я знаю и вряд ли кто более меня знает относительно источников его познаний.
Дибич был человек умный, это бесспорно, но ум, подобно безумию, имеет многие степени. Ум Дибича далеко не был необыкновенным. Кажется, что ему была бы по плечу какая нибудь войнишка, с каким нибудь Гессенским курфюрстом, но вряд ли он мог бы управиться даже с королем Саксонским; в этом нам порукою Кулевча.[27] И эта битва превзошла дарования Дибича; приведя на память Кулевчинское сражение, можно судить, что случилось бы, если б турки вздумали умно защищать Балканы и Румелию? Словом, я полагаю, что помочи были необходимы для Дибича, и что звание корпусного командира или начальника главного штаба у решительного, твердого и знающего свое дело главнокомандующего — очерк Попилия, через который никогда бы не следовало ему переступать. Его двинули за этот очерк и спустили с помочей, от ложного заключения, что тот, кто оказал дарования в звании обер- и генерал-квартирмейстера, или начальника главного штаба армии, неминуемо должен обладать всеми качествами, необходимыми для главнокомандующего. Бесспорно, что нет правил без исключения, но отличное исполнение обязанностей в этих званиях не есть достаточное мерило дарований и достоинств человека, определенного быть главою и душою армии. Предлагать начальнику отважные предприятия и при неудачах отстраняться от ответственности, оставляя ему всё бремя, — а при успехе разделять с ним славу предприятия, — не то, что самому решаться на предприятия, всегда более или менее гадательные и принимать на себя ответственность пред властями и общественным мнением за малейшую неудачу. Для последнего необходимы решительность и сила воли, которые суть основные стихии нравственного состава истинного полководца; в этих-то стихиях нуждалась и нуждается большая часть военачальников всех веков и всех народов. Вот от чего великие полководцы столь редки и вот от чего мантия полководца была не по росту Дибичу.
Говоря о Дибиче, дабы не навлечь на себя упрек в пристрастии, я не умолчу о благородном поведении его в Грузии, куда он был прислан по высочайшему повелению, для произведения следствия над главным начальником края, которого ему велено было сменить. Генерал-адъютант Паскевич, по наущению Карганова, прозванного Ермоловым за вполне предосудительное его поведение Ванькой-Каином, подал на своего начальника донос, по получении которого отправлен был в Тифлис барон Дибич, который после произведенного следствия убедился, что это есть лишь гнусный вымысел против человека, заслужившего всеобщую любовь, преданность и уважение. Донося об этом государю, равно и о том, что дела в Грузии в наилучшем порядке, Дибич простер свою смелость до того, что осмелился представить его величеству необходимость вызвать из Грузии генерала Паскевича, который, по его мнению, не в состоянии был постичь нужд края. Во время пребывания своего в Тифлисе, он ежедневно видался с Ермоловым, готовившимся выступить с ним под Эривань. К нему осмелился явиться Карганов, вызываясь сделать доносы на Ермолова, но Дибич, не подражая Паскевичу, прогнал его от себя. Около этого времени прибыл в Грузию флигель-адъютант полковник Адлерберг и вероятно с тайным поручением наблюдать за самим Дибичем, которого поведением в Грузии не совсем оставались довольными в Петербурге. Вскоре новый фельдъегерь привез барону Дибичу подтвердительное повеление о смене Ермолова. Это привело Дибича в величайшее смущение, и он невольно воскликнул[28]: «они сами не понимают, что делают». Передавая Ермолову высочайшее повеление, он просил его не прощаться с войсками, питавшими к нему величайшую преданность и благоговение. На вопрос Дибича передать ему какую-либо просьбу, которую он обещал повергнуть в стопам государя, Ермолов отвечал. «Я прошу лишь сохранения прав и преимуществ чиновника 14 класса, что избавит меня по крайней мере от телесного наказания». Чрез несколько времени после этого события, Дибич, через флигель-адъютанта князя Николая Андреевича Долгорукова, просил Ермолова предупредить его своим выездом из Тифлиса, потому, что он не мог ручаться, чтобы Паскевич не нанес ему какого-либо оскорбления. «Благодарите барона, — отвечал Ермолов, — за его обо мне попечения и заботы. Это не может случиться, ибо при малейшем покушении Паскевича оскорбить меня, я прикажу войскам связать его, что будет тотчас исполнено, и тогда я буду просить барона Ивана Ивановича успокоить государя, что начальство над войсками приму не я, но кто-нибудь из младших по нём генералов». Дибич, возвращаясь в Россию, встретил на Кавказской линии ехавшего в Пятигорск генерала Сабанеева, которому он сказал: «Государь не знает, кого он лишился; я нашел край в блистательном порядке и войско, одушевленное духом екатерининским и суворовским; Паскевичу будет легко пожинать лавры».
Я достоверно знаю, что Дибич сомневался в успехе при отъезде своем в Турцию, но ни турецкая армия, ни турецкий народ не защищались, и удача увенчала поход баловня Фортуны.
Упоенный удачами своими в Турции, Дибич уже ехал в Польшу в полной уверенности на победу при первом своем появлении. Произошло однако то, чего должно было ожидать. Одержанные им успехи в Турции вознесли самонадеянность его за пределы благоразумия, — а первый отпор в Польше и многосложность неблагоприятных обстоятельств, вдруг воспрянувших, и им вовсе непредвиденных, окончательно поколебали эту самонадеянность и совершенно убили в нём присутствие духа, без которого даже сдачу в вист разыграть затруднительно. Таков был Дибич! Долго успехи сопутствовали ему во всех предприятиях, но чем окончились все усилия его к достижению сферы, не соответствовавшей его дарованиям? Получив начальство над армиею в Польше, что почиталось его совместниками за верх благополучия, он возвысился над толпой на столько, на сколько веревка возвышает висельника.
Дибичу Россия обязана семимесячной отсрочкой в покорении царства Польского, отсрочкою, в глазах её порицателей столь предосудительною для государства, употребившего не более времени, чтобы победить самого Наполеона и его европейскую армаду; но повторяю, корень зла скрывался не в русском войске, а в личности самого Дибича.
При всём том, мнение иностранцев не перестает быть противным чести русского оружия. Все осуждают армию нашу и частных её начальников за недостаток энергии и неумение прекратить войну единым ударом; но легче осуждать, основываясь на слухах и на словах других, чем до осуждения основательно исследовать, в какой степени мы заслуживаем порицания. Спросите упорнейших порицателей, до чего простиралось во время войны число войск обеих воюющих сторон? Какие были предприняты движения обеими противодействовавшими армиями? К удивлению вашему, они ничего не скажут, ибо ни о чём не знают, — я же, в качестве свидетеля и участника, могу сказать, что война эта носила на себе совершенно особенный отпечаток. Она достойна внимания, не по недостатку в войсках наших мужества и энергии, или дарования в частных начальниках, а напротив от особенного положения той и другой воюющих сторон. Усилия нашей армии не ограничивались одной борьбой с польским войском и восставшими в тылу их западными губерниями, но им надлежало, в одно и то же время, бороться и с полководцем, начальству которого они были вверены. Спрашиваю, какая армия в мире выдержала бы подобное испытание? Пораженная всем этим, она предавалась на побиение польским войскам; но при всём том, если исключим частные неудачи Гейсмара под Сточеком, Крейца под Казиницами и Розена на Брестском шоссе, все сражения были выиграны русскими, невзирая на то, что числительная сила обеих воюющих армий мало в чём одна другой уступала до самого взятия Варшавы и были эпохи, в которых превосходство войска было на стороне неприятеля. Я говорю как было, а не так как печаталось в польских, французских, английских газетах и разглашалось врагами России.
Армия наша, движимая страстью к военным случайностям, столь свойственною каждому русскому, бодро выдержав все трудности зимнего похода, явилась к 20-му января 1831 года на вызов своего противника. В сей день снежный горизонт восточной границы царства покрылся громадами войск наших; холмы Немана, Наревы и Буга закурились длинными рядами бивуаков и штык русский сверкнул пред знакомым ему войском польским. Армия наша состояла из 1-го и 6-го (бывшего литовского) пехотных корпусов, гренадерского корпуса, 3-го и 5-го резервных кавалерийских корпусов и гвардейского отряда, всего из 106 батальонов пехоты, 135 эскадронов кавалерии, 11 казачьих полков и 396 орудий артиллерии.
Восстание в Польше было не всеобщее, а частное, ибо какие составные части польской нации? Шляхетство, духовенство, средний и крестьянский классы, из коих последний превышает по крайней мере в двадцать раз оба первые. Кто же уверит меня очевидца, что польские средний класс и крестьяне, соединенно с шляхетством и духовенством, восстали в эту войну на Россию, для восстановления самостоятельности их отечества? Если же средний и крестьянский классы были чужды восстанию, то неужели частное восстание высших двух классов можно было почитать всеобщим и национальным?
Во всех единодушных, всеобщих и национальных восстаниях, все без изъятия сословия добровольно вооружаются; так поступили Испания и Россия, но не вследствие угроз, или разорительной пени, как то было в Польше. Здесь добровольно восстали только шляхетство, духовенство и войско, с трудом возбужденное своими генералами и офицерами, принадлежащими к шляхетству; хотя средний класс и крестьяне умножили ополчение рекрутами, но не добровольно, а быв отторжены от своих семейств народным правлением и своими помещиками. Находясь в рядах войск, они сражались храбро; это свойство славянских народов, но от рекрутского набора скрывались в лесах. В солдатском же звании, воль скоро представлялся им случай к побегу, они в самую благоприятную эпоху для польского оружия немедленно и с радостью удалялись в жилища свои. Они нетерпеливо ожидали исхода войны, каков бы он ни был и при первом известии о взятии Варшавы никакая власть не могла уже удержать их в рядах ополчений. Они, рассыпавшись шайками в двести, триста и пятьсот человек, не причиняя ни малейшего вреда никому из русских, поодиночке им на пути попадавшихся достигали своих пепелищ и вновь обращались к сельским работам, как, будто никогда не меняли сохи на оружие. Равнодушие к исходу борьбы, предпринятой с нами шляхетством и духовенством, еще более обнаружилось между домоседами. Они ни мало не изменились против того, чем были прежде войны. Везде курьеры, малосильные команды и наши отсталые могли свободно разъезжать. Как часто мне случалось (и кому из нас этого не случалось?) одному несколько раз проезжать безопасно и по всем направлениям на почтовых в Польше, иногда ночевать на почтах или в селениях, иногда на больших дорогах в поле посреди пахарей. Это ли свойство народной войны и общего восстания? Проезжая один из главной квартиры, для принятия отряда, мне вверенного и расположенного против Замостьской крепости, верстах в десяти от Люблина, изломалась у меня почтовая бричка. Это случилось в поле, далеко от селения, следовательно и от возможности переменить повозку. Немедленно я послал почтальона моего со всею тройкою лошадей в Люблин, для высылки мне с почты крепкой брички с свежими лошадьми, а сам сел в изломанный экипаж мой и закурил трубку в ожидании грядущих благ и лошадей. В это время сотни крестьян удалялись с легкими своими пожитками с театра военных действий в места более спокойные. Вся эта эмиграция, в продолжении слишком двух часов, проходила спокойно мимо меня лежавшего и курившего трубку в изломанной повозке, в военно-российском сюртуке с генеральскими эполетами. Многие здоровались, многие проходили молча, но ни один не сказал мне грубого, даже насмешливого слова, на которое, признаться, они могли быть вызваны моим странным положением. Без сомнения эти случаи часто повторялись, и верно не с одним мною, в течении этой войны; крестьяне говаривали, почесывая голову и скрежеща зубами, когда производились нами наряды подвод, или фуражирования в их селениях: «О, паны, паны!!! не вы господа солдаты, а наши паны нас губят. Одному хочется быть королем, другому генералом, третьему богачом, а мы за всё платим и за всё терпим!» Отчего же происходит то равнодушие крестьян и среднего класса к этому предмету, которого усиливались достигнуть духовенство и шляхетство польское? От того, что везде и повсюду духовенство и дворянство, не довольствуясь наслаждениями вещественными, алчут сверх того почестей, власти, известности и славы, тогда как среднее и низшее сословия ограничивают желания свои улучшением ремесленничества, добрым урожаем, выгодным сбытом своих произведений и покровительством законов противу насилия высших сословий.
Театр военных действий, или царство Польское граничит на востоке с Россиею, на севере и на западе с Пруссией, на юге с Австриею.
Оно представляется на карте в виде несколько округленного четырёхугольника с узкою продолговатостью к северо-востоку, проходящею между Гумбиненской провинцией Прусского королевства и Гродненской и Виленской губерниями.
Висла, направляясь от Завихвоста до Торуня, рассекает этот четырёхугольник почти на двое; близ Торуня она вступает в границу Прусского государства.
Восточная часть царства, на правом берегу Вислы, заключает в себе воеводства. Августовское, образующее вышесказанную продолговатость, Плоцкое, Подлясское, клин Мазовецкого воеводства, отсеченный Вислою, и воеводство Люблинское. Западная часть царства, находящаяся на левом берегу Вислы, состоит из главной части Мазовецкого воеводства, и воеводств: Калишского, Краковского и Сандомирского.
Восточная часть царства представляется, для военного взор разделенною на четыре поля действий:
1. Пространство, заключающее в себе Августовское и Плоцкое воеводства, лежащие между Пруссией и правым берегом Немана, а потом Нарева;
2. Пространство, заключенное между левым берегом Нарева и правым берегом Буга.
3. Пространство, заключенное между левым берегом Буга и правым берегом реки Вепржа.
4. Пространство, заключенное между левым берегом Вепржа и Австрийскою Галициею.
Западная часть представляет два поля действий:
5. Пространство, заключенное между левым берегом нижней Вислы и левым берегом реки Пилицы.
6. Пространство, заключенное между правым берегом Пилицы и левым берегом верхней Вислы, или Краковской области и Австрийской Галиции.
1-е поле восточной части царства весьма тесное, от смежности с ней границы Прусского государства, Немана и Нарева. Изрезанное поперечными реками, ручьями, озерами и дефилеями, покрытое дремучими лесами и во многих местах непроходимыми болотами, оно не представляет удобства для наступательных действий и весьма способствует оборонительным. Поле это начинает расширяться от черты, соединяющей Пултуск с Млавою, т.е. от черты, от которой наступательное действие с нашей стороны не только весьма затруднялось, но и где мы могли подвергаться большим опасностям; неприятель, опираясь на Модлинскую крепость и Пражское предмостное укрепление, мог, с полной и весьма основательной надеждой на успех, произвести совокупными силами натиски через Сироцк и Пултуск, во фланг и тыл армии нашей, особенно если по каким-либо обстоятельствам она, перейдя реку Вкру, двинулась бы в глубину Плоцкого воеводства. Наконец поле это хотя и прорезано отлично устроенным шоссе, простирающимся от Ковно до Варшавы, но этот путь — один из самых дальних из всех, идущих от границы нашей к Варшаве, ибо заключает в себе более четырехсот верст.
Второе поле несколько удобнее для действий только у границ наших, до черты, соединяющей местечки Нур и Остроленку; но, по мере углубления своего к главному предмету действия, т. е. к Варшаве, оно более и более стесняется реками Царевом и Бугом; местоположение становится лесистее и болотистее, так что почти по всему пространству его, нет другого пути для армии с её тяжестями, кроме пути, идущего на местечки Брок и Витков; прочие же дороги только тропы, проложенные поселянами по тундрам и дремучим лесам. Нарев, представляя преграду весьма значительную, вовсе отделяет первое поле от второго. Путь, идущий от Белостока к Варшаве и рассекающий это поле, заключает в себе немного более двух-сот верст.
Третье поле действий представляет пространство весьма удобное для всякого рода движений, особенно для наступательных, ибо оно открыто и изрезано многочисленными путями сообщений. Сверх того оно рассечено отлично-устроенным шоссе, идущим от Бреста до Варшавы, которое заключает в себе не более ста восьмидесяти верст.
Наконец четвертое поле не менее третьего удобно для военных действий; хотя оно и лишено искусственного шоссе, однако здесь встречаются широкие пути, рассекающие страну по всем направлениям, и хлебороднейшие части царства Польского; операционный путь, лежащий по этому полю от Устилуга до Варшавы, заключает в себе около трехсот верст. На юг от него находится Замостьская крепость, посредством которой польская армия имеет все способы вторгаться в Волынь и в Подолию, и сверх того предпринимать набеги, в тыл наших войск, занимающих Люблинское воеводство, или наступающих на Варшаву.
Модлинская крепость и Пражское предмостное укрепление служат центрами, к которым сходятся пути, рассекающие первые три поля, и путь четвертого поля — в случае движения наших войск из Люблина на Зелехов, Шениц и Прагу. Если бы они двигались по почтовому пути прямо на Варшаву, этот путь, проходя через Пулаву, минует Пражское укрепление. Поля действия западной стороны царства состоят из:
1) Пятого поля, заключенного между Вислою и Пилицею, бедного лесом и вообще способного для военных действий по большому числу путей и открытому местоположению. Главные из этих путей идут из Варшавы в Краков, идо Варшавы в Люблин через Пулаву и из Варшавы в Будит.
2) Шестого поля, заключенного между Пилицею, и верхнею Вислою, покрытого обширными лесами и песками. Главный путь, рассекающий это пространство, есть продолжение пути в Краков по пятому полю; другие пути, хотя и удобны для следования войск, но идут почти все сквозь обширные леса, затрудняющие движение. Вообще, это царство, относительно местоположения, весьма плоское и не имеет значительных возвышений.
Граф Дибич послал государю 27-го января, из Высокомазовецка следующий рапорт:
«Желая воспользоваться способами края, дабы занятием большего пространства оного обеспечить по возможности будущее продовольствие армии в самом царстве Польском, и сообразуясь с Высочайшею волею В.И.В., я решился немедленно начать военные действия и соединенными силами вступить в Царство Польское. Движение сие учинено на разных пунктах и расположено так, чтобы 80 000 человек могли всегда в течении 20 часов соединиться и нанести возмутителям решительный удар, если бы они отважились принять сражение.
24 января вступил в Царство Польское, при Ковне корпус гренадерский генерала князя Шаховского несколькими эшелонами, составляющими 18 батальонов гренадер, 4 эскадрона кавалерии, 60 орудий артиллерии и казачий полк, направляясь по шоссе на Калварию и далее к Августову. Неподалеку от Гродно при Доброве перешел границу генерал-майор Мандерштерн с пятью батальонами пехоты, двумя эскадронами кавалерии, двенадцатью орудиями артиллерии и казачьим полком, направляясь прямо на Августово.
При Влодаве перешел границу генерал-адъютант барон Гейсмар с двадцатью четырьмя эскадронами кавалерии, двадцатью четырьмя орудиями артиллерии и двумя казачьими полками, имея направление к городу Седлецу.
При Устилуге перешел границу генерал-лейтенант барон Крейц с двадцатью четырьмя эскадронами кавалерии, двадцатью четырьмя орудиями артиллерии и одним казачьим полком в направлении к Люблину.
Наконец малый отряд, под командою полковника Анрепа, из одного казачьего полка и одного дивизиона улан, перешел границу в Брест-Литовске в направлении к Седлецу; сему отряду предназначено связать партиями действия генерал-адъютанта Гейсмара с главными силами армии, которая на другой день, то есть 25 января, перешла границу, а именно: корпус генерала графа Палена, из двадцати одного батальона пехоты, шестнадцати эскадронов кавалерии, семидесяти двух орудий артиллерии и двух казачьих полков, переправясь в двух пунктах при Тикочине и Желтках, направляясь на Заводы и далее на Дудки. Корпус генерала барона Розена из двадцати шести батальонов пехоты, двадцати четырех эскадронов кавалерии, ста двадцати орудий артиллерии и двух казачьих полков, переправясь в двух пунктах при Сураже и Пионткове, направился через Соколы на Высокомазовецк. При сем корпусе следовала главная квартира армии с своим конвоем из одного батальона пехоты, одного эскадрона кавалерии и казачьего полка. Корпус генерала графа Витта с четырьмя батальонами пехоты, двадцатью восемью эскадронами кавалерии и сорока восемью орудиями артиллерии, переправясь при Цехановце и Гранне, направился на Нур и Стердынь; и наконец резерв армии из двадцати двух батальонов пехоты, двенадцати эскадронов кавалерии и тридцати шести орудий артиллерии, перешел границу в Сураже 25 и 26 января, направясь на Соколы под командою Е.И.В. Государя Цесаревича».
Главнокомандующий, из Венгрова, от 1 февраля, послал государю следующий рапорт:
«Получив сведение, что войска мятежников расположены двумя отрядами, первым при Остроленке, Пултуске и Рожанах, а другим главнейшим, около Минска, Калушина и Владиславова, я решился двинуться всеми силами к Бугу, в направлении к Вышкову чтобы, по переходе реки сей, разделить армию мятежников на две части и, оставя отряд генерал-майора Мандерштерна в Ломзе, для наблюдения левого её фланга, со всеми прочими силами стараться отрезать мятежникам отступление правого их фланга к Варшаве. В течение дневки, которую имела армия, как для необходимого отдыха войск, так и для снабжения оных новыми продовольственными припасами, внезапно наступивший юго-западный ветер произвел такую перемену в температуре, что, после 20 градусов мороза, 29 числа все поля были уже совершенно обнажены от снегу, дороги сделались крайне затруднительными, речки раз лились и должно было опасаться, что всякое сообщение между обоими берегами Буга неминуемо прекратится; а посему надлежало поспешить переходом всей армии на левый берег сей реки, где край представляет лучшие сообщения. Сообразно с сим, 30 числа армия сделала общее фланговое движение влево и перешла Буг в двух местах: шестой пехотный корпус при Броке, а первый пехотный при Нуре, сделав форсированных два марша от Ломзы и Замброва. Переправа совершилась хотя еще по льду, но с большими предосторожностями. За первым корпусом перешел весь резерв Е.И.В. Государя Цесаревича, а вслед за оным переправился фурштат всей армии с шестидневным провиантом. Для обеспечения, оставленного армиею, края на правом берегу Буга, предписал я генералу князю Шаховскому, имеющему прибыть 4 февраля с тремя полками 3-й гренадерской дивизии в Ломзу, принять в команду свою генерал-майора Мандерштерна, находящегося в сем городе с отрядом своим, и, сосредоточив эшелонами всю 1-ю гренадерскую дивизию, по той же дороге следующую, составить впредь до поведения особый отдельный корпус. Корпус сей состоять будет из двадцати двух батальонов пехоты, четырех эскадронов гусар, двух казачьих полков и шестидесяти орудий артиллерии.
Независимо от сего оставлен в роде партизана, на правом берегу Буга, полковник Шиндлер с казачьим поляком. Делая поиски по всему пространству между Бугом и Наревом, для рассеяния всякого вооруженного скопища, полковник Шиндлер будет находиться в беспрестанном сношении, то с генералом князем Шаховским, то со мною. 31 января армия сделала от берегов Буга форсированный марш двумя колоннами в направлении к Венгрову, который к вечеру был занят авангардом графа Палена, под командою генерал-майора Сакена. Бывший уже пред сим в сем направлении и усиленный бригадою егерей и бригадою первой гусарской дивизии, первый корпус в сей день остановился в Пашееве; шестой корпус при деревне Тонче. — Авангарды сих корпусов, имея повеление занять переправы на Ливице, нашли мосты при Ливе и старой Веси совершенно истребленными. При первом из сих мест, возмутители, под прикрытием артиллерии, старались воспрепятствовать возобновлению моста; но бригада егерей и сильный удачный огонь поставленных против них орудий, принудили их удалиться, так что в сию минуту мост построен и авангард наш переправился.
Коль скоро мосты совершенно устроены будут, авангардам шестого и первого корпусов предписано перейти: первому на дорогу к Дебре, а последнему на дорогу к Калушину. Главная моя квартира находится в Венгрове.
Резерв Е.И.В. цесаревича переходит сегодня в Соколове, посылая авангард по дороге к Седлецу. В распоряжение Его Высочества поручается 3-й резервный кавалерийский корпус без второй бригады украинской уланской дивизии, которая послезавтра только что присоединяется к своему корпусу. Направление сие даю я в том предположении, чтобы быстро преследовать мятежников, находящихся при Седлеце, войска коих вероятно отступят, узнав о занятии Венгрова и ближайшем нашем движении к Калушину.
Относительно действий пятого резервного кавалерийского корпуса, находящегося в воеводствах Седлецком и Люблинском, имею счастье донести В.И.В., что с переходом оного границы, распространился всеобщий страх. В городе Седлеце он был так велик, что с первым появлением казаков партизанского отряда полковника Анрепа, они почти без сопротивления заняли сей город. Возмутители, узнав однакож, что отряд полковника Анрепа не довольно силен, вошли вторично в Седлец с двумя уланскими и двумя пехотными полками и с артиллериею. Тогда полковник Анреп выступил к Збучину. Возмутители, не довольствуясь сим, 28 числа сделали рекогносцировку двумя эскадронами к Збучину, где полковник Анреп встретил их всем отрядом, атаковал и, опрокинув их, немедленно преследовал на расстоянии шести верст по дороге к Седлецу. После сего полковник Анреп расположился при Угржанове, имея передовые свои посты в четырех верстах от города Седлеца с тем намерением, чтобы, при малейшем виде к отступлению, напасть на арьергард возмутителей и преследовать их быстро. На сей конец находится он в прямом сношении с генерал-адъютантом Гейсмаром, который из Лукова перешел в Сточек, чтобы упредить неприятеля в его отступлении. Генерал-лейтенант барон Крейц 27 января был в одном марше от Люблина, который, по рассказам жителей, не занят никакими войсками. От сего города, генерал Крейц имеет повеление идти к Пулаве и, переправя там часть казаков на левый берег Вислы, стараться рассеять тамошние вооружения.
Всеподданнейше донося В.И.В. о первоначальных движениях моих, по вверенной мне армии, я обязываюсь всеподданнейше присовокупить, что начатие военных действий столь неожиданно было для возмутителей, что повсюду находимо продовольствие, особенно в фураже, которого при теперешней распутице никакими средствами подвезти бы не возможно было. Из общих движений возмутителей заметна нерешимость; они повсеместно избегают встречи с нашими войсками и при появлении оных отступают».
Эти два донесения достойны особенного внимания. Они заключают в себе предсказания всему тому, что впоследствии совершилось и должно было совершиться; здесь обнаруживается отсутствие военных дарований составителя их. Сверх того, какие противоречия, какое напряжение к введению в заблуждение правительства на счет истинного положения дел! Я один из противников военных советов, за несколько тысяч верст присылающих наставления главнокомандующим на счет их действий, тогда как каждая минута, каждый шаг изменяют обстоятельства войны. Не возможно, при чтении означенных рапортов, не пожелать по крайней мере какой-либо военной комиссии, учрежденной при главе правительства для разбора того, что уже исполнено и для открытия противоречий и ложных известий. К чему послужили бы донесения правительству, если бы они ему не доставляли средств к основанию на прошедшем и настоящем предначертаний для будущего? Если донесения полководца лживы, то предположения и расчёты правительства должны быть весьма ошибочны, следовательно ему выгоднее не получать вовсе никаких донесений, чем получать такие, которые могут вводить его лишь в заблуждение. Можно не допускать полной правдивости в донесениях о войнах с восточными государствами. Тут большею частью и почти всегда встречаются вымыслы тысяча и одной ночи. Тут являются на сцену и многолюдные, не существовавшие армии, коих разрезывают на двое, и разбитие и перебросы их за горы, коих не было, и взятие первоклассных крепостей, слепленных из глины, разваливающихся от холостых выстрелов, и громкие победы над сволочью, не выдерживающей грома единой пушки, и плены каких-то главнокомандующих[29], сдающихся первому явившемуся штаб-офицеру нашему. Бумага терпит, награждения сыплятся зря и, ложными известиями введенное в заблуждение, правительство может часто делать промахи, не подвергая однако тем опасности Россию, далеко превосходящую восточные соседние государства в умственном и вещественном развитии. Напротив, через обнародование такого рода донесений, увеличиваются в европейских государствах уважение к превосходству нашего оружия и к дарованиям наших полководцев. Но война с польскими мятежниками совершенно иная. Она, по влиянию своему на умы, угрожая России ужаснейшими последствиями, едва ли не была в сущности грознее войны 1812 года? Одну можно назвать бурей, другую заразой. Одну вел человек великий, превосходный, но имевший в виду лишь одну вещественную цель; другая неслась сама собою, скрывая в чреве своем начало, полное разрушительными последствиями единства России. Какая огромная обязанность лежала на правительстве! Ему надлежало быть наиболее бдительным, вовремя обо всём извещенным[30] и полным внимания к малейшему происшествию войны. И при таковых-то обстоятельствах, облеченный полною доверенностью правительства, полководец, на словах коего надлежало ему основывать все предварительные меры и распоряжения, не постигает важности и характера войны! Он продолжает доставлять своему правительству донесения, каковые доставлял ему из-за Балкан, где велась так сказать война исключительно вещественная! И что всему этому причиною? Старания скрыть действия свои при первом шаге за границу, проступок едва простительный прапорщику, который опоздал к разводу и извиняется различными вымыслами пред своим ротным командиром.
Разберем предварительно меры, принятые Дибичем, распоряжения его для перехода вверенной ему армии за границу и вышеупомянутые два донесения императору.
Алчность к начальствованию и уверенность в скором вплетении нового лавра в Забалканский венок, столь легко приобретенный в битвах ничтожных, увлекли графа Дибича к принятию начальства над армией против врага образованного и сведущего; он не имел для того необходимых познаний и не успел, как казалось, ознакомиться с обстоятельствами, на коих надлежало основывать все свои распоряжения. Ему представлялся, по-видимому, мятеж простиравшийся не далее Варшавы. Он по крайней мере не постигал, что отрасли заговора могли проникнуть в недра западных губерний, что этот мятеж был последствием нравственных корчей, терзавших Европу (словом, он не ожидал, чтобы вспышка в Варшаве была в состоянии произвести взрыв на всём пространстве от берегов Варты до берегов Днепра и Двины). Вместо того, чтобы, приняв на себя командование армиею, разглашать по Петербургу, что он задавит Польшу в течении шести недель,[31] он должен был отклонить от себя принятие тяжкого для него бремени, столь много превышавшего его средства. Я говорю это в оправдание Дибича, которому следовало предварительно ознакомиться с характером страны, положением дел и оценить, какие могли быть для России печальные последствия восстания, могущего вспыхнуть в соседних с Польшею губерниях. Если он понял, что желтая, красная и зеленая черты, отделяющие на карте эти губернии от царства польского, не вещественнее линий, означающих экватор; тропики и меридиан, тогда нет ему оправдания в избрании сих губерний основанием действий нашей армии, не заняв их предварительно и заблаговременно какими нибудь войсками. Как ему не знать было, что основание для военных действий армии не избирается во враждебных областях? Мы видим противное в двух только случаях: когда основанием служит самое государство, коему принадлежит действующая армия, как была для нас коренная Россия в 1812 году, или когда основанием служит государство союзное с тем, коего арония предпринимает военные действия, как были для нас Австрия и Пруссия в 1813 году. Поясняю мысль мою местным примером: всем известно, что Рейн и крепости Майнц и Страсбург представляют превосходные основания военного действия для армии, намеревающейся вторгнуться в пределы Франции; но если Майнц и Страсбург заняты уже французскими войсками и сверх того великие герцогства Дармштатское и Баденское, королевства Виртембергское и Баварское в союзе с Францией, то какой полководец в мире осмелится предпринять наступательное движение за Рейн и в недра Франции, без предварительного взятия или обложения Майнца и Страсбурга и без занятия вышесказанных герцогств и королевств сильною армиею? В том самом положении находились и наши западные губернии, относительно нашей армии. Хотя эти губернии и были объявлены на военном положении, но слово — не дело; чтобы военное положение существовало по истине, а не в воображении, следовало занять эти губернии войсками, исключительно назначенными для укрощения восстаний, могущих здесь возникнуть. Хотя император повелел немедленно образовать резервную армию в Литве и занять Волынь и Подолию войсками первой армии, но приведение в исполнение этих спасительных для нас мер требовало некоторого времени. По причине значительного расстояния войск между собою, не излишне было бы для Дибича, до прибытия их на пункты, им определенные, оставить на этих местах оба фланга армии, растянутой им от Ковно до границы Австрийской Галиции, — правый фланг в Вильне и Минске, а левый в Луцке. Первый, составленный из гвардейского отряда и второго пехотного корпуса, был бы достаточно силен для удержания в повиновении литовских губерний; последний, состоящий из пятого резервного кавалерийского корпуса и резервных батальонов 25-й пехотной дивизии, усиленных войсками, впоследствии составлявшими корпус Ридигера, представил бы твердый оплот против всякого восстания в Волынской, Подольской и Киевской губерниях. И да не подумали бы, что оставлением этих войск позади себя и вне круга боевых происшествий, Дибич ослабил бы массу действующих сил? Ни мало! Он имел дар распорядиться таким образом, что из самых войск, составлявших главную боевую массу армии, гренадерский корпус едва был в огне 13 февраля, придя лишь к сумеркам на поле сражения под Гроховым, а 7 февраля, под Милосной, этот корпус находился еще далее, будучи в 150 верстах от сражавшейся армии. Что же касается до гвардейского отряда, до второго пехотного корпуса и до войск, образовавших впоследствии корпус Ридигера, о них тогда и помину не было на театре военных действий; корпус Крейца находился в двухстах верстах от обоих вышеозначенных полей битв.
И так, избрав и упрочив основание свое и пути, с тылу в нему ведущие, Дибич был бы уже свободен и, не опасаясь восстания между жителями западных губерний, он мог бы обратить всё свое внимание на действие противу войск, непосредственно пред лицом его находившихся. Тогда стоило ему только, сосредоточив впереди Белостока на Нареве корпуса: гренадерский, первый и шестой пехотные, третий кавалерийский, гвардейский отряд цесаревича, одиннадцать казачьих полков и до 350 орудий, двинуться всею этою стотысячною массою через Нур к Венгрову; оттуда в Варшаве и, пользуясь превосходством в силах, атаковать польскую армию с полною надеждою на успех.
От Белостока до Варшавы не более двухсот верст. Полагая переход по 25 верст в сутки, что не очень велико, Дибич мог бы прибыть в 8 суток под Варшаву, следовательно ему более чем достаточен был обыкновенный запас хлеба: трехдневный в ранцах и десятидневный в фурах. Сверх того подвозы могли прибыть от брестского магазина в армию, тотчас по вступлении её в Венгров и занятии Седлеца, следуя по шоссе прочному, которое не могло портиться от действия дурной погоды. Так как он перешел границу 25 января, то 2-го февраля он мог бы быть уже под Варшавой. Лед на Висле был еще весьма крепок, ибо в это время, и даже несколько позже, корпуса Крейца и Дверницкого по два раза переходили Вислу по льду с орудиями и тяжестями. Совокупное движение нашей армии, вследствие которого, вся армия явилась бы 2 февраля под Варшавой, совершенно уничтожало бы выгоду, которую должно было принести неприятелю Пражское предмостное укрепление. Ледяной плот лежал в то время по всей Висле, следовательно не для чего было атаковать твердыню, защищавшую одну только точку реки, всюду по льду проходимой.
Сверх того замерзание рек и болот лишает оборонительные позиции большей части выгод, ими приносимых; этим Дибич мог легко воспользоваться, и чем весьма редко пользуются полководцы, делая предначертания свои по картам, на которых ни моря, ни реки, ни болота не замерзают. Это кажется эпиграммою, но в сущности справедливо. Я помню, сколько граф Бугсгевден употребил времени на войне в Финляндии, в феврале месяце 1808 года, на сочинение плана атаки шведского корпуса, занимавшего, по мнению его, неодолимую позицию под Форсби, ибо фланги позиции примыкали: правый к Финляндскому заливу, а левый в изгибу широкой реки, протекающей пред Форсби. Что же вышло? Корпус Шведский не остановился на этой позиции, потому что тридцатиградусные морозы давно уже превратили и финляндский залив и реки в равнину, несравненно удобнейшую для наступательного действия, чем твердая земля в Финляндии, покрытая скалами и дремучими лесами. Есть военачальники, которые в зимним нелепостям присоединяют еще и летние. Они примыкают фланги войск своих к малому ручью или пруду, на карте означенным, не принимая в уважение: есть ли броды или нет на ручье и достаточно ли воды в нём для плавания лягушек? О таковых-то полководцах великий Суворов говаривал: «Помилуй Бог! эти великие тактики не иначе дают сражения, как примкнув флангами: одним в луже, другим к навозной куче!»
Но приступим к рассмотрению рапортов Дибича. Оставив на произвол судьбы и основание и штильные пути, ведущие к нему, Дибич, как мы выше видели, доносит:
«Желая воспользоваться способами края, дабы, занятием вдруг большего пространства оного, обеспечить по возможности будущее продовольствие армии в царстве Польском, я решился немедленно начать военные действия и соединенно вступить в царство Польское. Движение сие учинено на разных пунктах».
За кого принимал Дибич правительство, осмеливаясь угощать оное подобными донесениями? Пусть покажут нам возможность занятия войсками большего пространства, не разбросав войска по всему пространству? Пусть укажут нам средства начать военные действия соединенными силами, предпринимая нападения на разные пункты?
Дело в том, что пространство, определенное Дибичем для занятия армиею, ему вверенною, заключалось между восточною Пруссиею и Австрийскою Галициею, что составляло около 400 верст протяжения; разные пункты, через которые наступление производилось, находились на протяжении от Ковна до Устилуга, что составляло около 700 верст. И подобную операцию, в донесении правительству, Дибич называл действием соединенными силами! Чудесная логика и не менее того превосходная стратегия! Впрочем это предначертание имело основанием, как он сам говорит, обеспечение будущего продовольствия армии. Но надолго ли рассеяние военных сил по обширному пространству, в шести переходах от сосредоточенной неприятельской армии, может обеспечить продовольствие этих войск, если противодействующие силы сосредоточены, а военачальник их предприимчив и знает свое дело? Правда, что для подобной же цели Наполеон рассеивал свою армию, но не в шести переходах от неприятельской армии, а в весьма дальнем от неё расстоянии; по мере же приближения своего к ней, он снова сосредоточивал войска. Нет сомнения, что прокормление армии дело великой важности, но главная цель всякого ополчения не есть лишь утоление голода его, а одержание побед. Армия, расположенная близ собственных крепостей, снабженных продовольствием, может с полным желудком простоять всю кампанию без действия и, сохранив себя, может погубить отечество. Армия, рассеянная для пропитания по чрезмерному пространству, вблизи сосредоточенного неприятеля, может с полным желудком потерпеть по частям поражения и погубив себя, погубить отечество. Для этой ли цели собираются армии? В 1796 году Бонапарт, приняв начальство над войском голодным, в рубищах, без казны и без магазинов, и показав ему с высот Аппенинов роскошную Италию и полные продовольствием крепости, разливавшие изобилие в армиях Австрийской и Сардинской, сказал войскам своим: «всё это ваше» и всё стало их и приняло иной вид: голодные насытились, нагие оделись, миллионы посыпались в казну армии и Франции; сытые же австрийцы и сардинцы познали голод и, растеряв в бегстве башмаки, предали во власть победителей все запасы, все источники богатства изобильнейшего края. Вот доказательство, что не роскошное содержание армии дает победу, а победа открывает средства к содержанию армии, поддерживая войну войною.
Из этого ясно видно, что для достижения цели нужно было обратиться к способу, вовсе противоположному тому, который избран был Дибичем, а именно: прежде всего надлежало напасть совокупными силами на неприятеля, разбить его и тогда уже легко, позади победоносной своей армии, приказать известным областям озаботиться о снабжении войск всем для них необходимым. Для отыскания тому примера излишне было рыться в чужеземных историях и заглядывать в Италию; пример тому легко было найти в русской армии и на самом том месте, на коем намеревались действовать. За тридцать шесть лет пред сим Суворов, сосредоточив армию в Бресте и обеспечив тыл свой войсками хотя независимыми от него, но назначенными от правительства занимать Литву и Волынь, то есть корпусами князя Репнина и графа Салтыкова, двинулся усиленными переходами к Варшаве, разбил под Кобылкою Польский корпус, отступавший из-за Нарева и Буга к Варшаве, взял приступом укрепленную Прагу и, покорив Варшаву, разместил войска свои на квартиры, определив на доставление им продовольствия все, вследствие побед его, впадшие в нашу власть Польские воеводства. Вот способ, коим благоразумному полководцу следует продовольствовать войска свои на счет жителей враждебной области, до благоприятного рассечения Гордиева узла. Это обстоятельство более, чем сомнительно, при разбрасывании наступательной армии в близком соседстве с сосредоточенным неприятелем, ожидающим, может быть, этой ошибки, чтобы самому перейти к наступательным действиям.
«Получив сведение, что войска мятежников расположены двумя отрядами, — первым при Остроленке, Пултуске и Рожанах, а другим и главнейшим около Минска, Калушина и Владиславова, я решился двинуться всеми силами к Бугу, в направлении в Вышкову, чтобы, по переходе реки сей, разделишь армию мятежников на две части, и, оставя отряд генерал-майора Мандерштерна в Ломзе для наблюдения левого фланга, со всеми прочими силами стараться отрезать мятежникам отступление правого их фланга в Варшаве».
Это выходка для жоминистов. Дибич хотел показать ею, что и он умеет, подобно Фридриху, Наполеону и Суворову, пользоваться внутреннею линиею, во на деле этого не было, и слава Богу! ибо этот план не мог быть приведен в исполнение. Чтобы избирать род действия, предметом коего служит разделение неприятельской армии на двое, необходимо следует достоверно узнать, точно ли расположение её тому способствует; если слухи справедливы, то не ползти и не останавливаться на пути, а бежать, лететь, бросаться стремглав на избранный предмет действия, потому что операция такого рода более других требует быстроты и внезапности. В этом случае, если бы известие о размещении польской армии, подученное Дибичем, и не подлежало сомнению, то было безрассудно следовать со всею армиею по местности лесистой между Бугом и Наревом, едва прорезанной кое-где узкими дорогами и тропинками и, в то время года, еще заваленной снегами; неприятель между тем мог удобно двинуться по широким и удобным шоссе, соединяющимся у пражского укрепления пред Варшавою. При первом известии об этом движении, неприятель мог весьма спокойно отойти по обоим шоссе и сосредоточиться у Праги, прежде чем армия наша успела бы сделать два перехода по затруднительной местности. Положим однако, что препятствия эти не устрашили Дибича, что он решился преодолеть их, во что бы то ни стало, и предпринять движение, требующее быстроты и внезапности; он двинулся и вдруг… что же пишет? «в течении дневки, которую имела армия»…. Как, дневки?! В операции, к которой всякий шаг вперед, всякий час, всякая минута так дороги, полководец, предпринявший ее, решается остановить армию для дневки? Но что тому причиною? Послушаем еще самого Дибича: «как для необходимого отдыха войск, так и для снабжения оных новыми продовольственными припасами». Право не знаем, какое имя дать подобной наглости в отношении к правительству? Да чем же главнокомандующий занимался в течении полуторамесячного пребывания своего посреди армии в Белостоке? Не устройством ли в окрестностях этого города и в Бресте магазинов, ежедневно наполняемых подвозами из литовских губерний, и образованием армии, по мере прибытия в её состав войск из России? И когда войска, составлявшие армию, подкрепили себя, первые — десятидневным, а последние — пятидневным отдохновением, когда магазины наполнились по крайней мере двух-недельною пропорциею провианта, когда, сверх того, большое количество запасов роздано было войскам: сухарей на три дня в ранцы и на десять дней в фуры, тогда Дибич двинулся и, после двух переходов, снова остановился, как для необходимого отдыха войск, так и для снабжения оных новыми продовольственными припасами! И где же? В земле, на коей оставлены были огромные магазины неприятельские; в земле, противу нас восставшей и изобилующей всеми родами съестных припасов; на шестисуточном расстоянии от неприятеля и, имея с собой одиннадцатисуточный запас продовольствия! Если это называется воевать, то как назовем мы походы фридриховские, наполеоновские, суворовские и предшествовавших им полководцев? Дошли ли бы до нас имена Александра, Аннибала и Цесаря, если б на каждом втором переходе они, имея при себе достаточное количество провианта, останавливали войска свои для отдохновения и ожидания подвозов с пищею в краях, ею изобилующих?
Впрочем, это не новая уловка главнокомандующих напиши армиями. Я отслужил четырнадцать кампаний и почти в каждой из них читал по нескольку раз подобного рода оправдания, посылаемые ими правительству. Забавные оправдания! Армия не может идти вперед, потому что еще подвозы с запасами к ней не прибыли. Но разве войско, стоя на месте, может обойтись без пищи? А если оно употребляет не менее пищи во время стоянки, как и на походе, и пищу эту получает от жителей края, им занимаемого, то не лучше ли ему утолять голод, подвигаясь вперед, чем стоя на одном месте? Тем более, что от неподвижного пребывания армии край, ею занимаемый, с каждым днем более и более изнуряется и не в состоянии прокормить её и жителей. При движении же вперед, она на каждом шагу находит народонаселение свежее и еще не разделившее с войсками пропитания своего, следовательно обладающее большею возможностью прокормить войска, чем то, которое понесло уже ущерб в своих запасах. Если бы впереди находящийся край был, подобно аравийской пустыне, лишен скота и хлеба, тогда без сомнения нельзя вступить в него без огромных запасов провианта из магазинов, предварительно устроенных в хлебородных областях, с нею граничивших. Но во всех европейских войнах области, прилегающие спереди, с боков и с тыла к той, в коей полководец останавливает армию свою для ожидания подвозов, почти столь же изобильны продовольствием, сколь и она сама.
Это рассуждение не свыше понятий самого обыкновенного человека.
Что же причиною, что всегда пропадает так много времени в бездействии, под предлогом поджидания подвозов с провиантом? Не вследствие ли опасения генерального сражения с неприятелем, этого рокового удара, решающего в несколько часов судьбу всего похода? Вот истинная тому причина; поджидание же подвозов только отговорка, и так быть должно. Самое превосходно-обдуманное и данное на выгоднейшем местоположении генеральное сражение зависит от больших или меньших случайностей, а чтобы любить случайности надо быть преисполненным поэзией ремесла нашего, исключительно поэтического, и потому непостижимого для людей, руководимых единою расчётливостью, ничего не оставляющею на произвол случая, ничего не вверяющею порывам вдохновения. Нужно иметь твердую, высокую душу, жаждущую сильных ощущений, без влияния их на ум, ни от чего не смущающийся и всегда деятельный, на волю, сплавленную в единый слиток, и на мнение о себе полное неистощимого запаса уверенности в способности творить успехи там, где посредственность видит одну лишь гибель. Как же после того могли бы предпринять что-либо отважное полководцы покроя обыкновенного, дарований сомнительных и теряющие силу соображений при малейшем неблагоприятном обстоятельстве? Как решаться им на сшибку грудь с грудью с неприятелем, на сшибку, могущую в один день, а иногда и в один час времени ниспровергнуть в прах весь мозаический слепок их хрупких репутаций? Вот почему полководцы эти прилепляются как ростовщики к скопленному ими, всеми позволительными и непозволительными способами, капиталишку, рискуя им не иначе как мелкою монетою, по денежкам и по копеечкам, в огромной понтировке армий и народов. Вот почему они довольствуются ожиданием, при выигрыше, аренд, чинов, лент, а при проигрыше, наказания соразмерного с подобными наградами; тогда как в этой же понтировке полководцы размера Фридриха, Наполеона, Суворова, ставят на одну карту весь капитал необъятных побед, ими приобретенных, и выигрывают целые государства, или проигрывают всё до собственной жизни, до собственной свободы, как Аннибал и Наполеон, оставив славе своей лишь бессмертие на пропитание.
Стоянка Дибича в окрестностях Ломзы и Высокомазовецка продолжалась трое суток, тогда как следовало бы ей продолжаться не более того времени, которое нужно было для сварения каши и легкого отдыха. 30 января армия выступила в поход, до уже не на Вышков, а круто вправо на Броки и Нур, дабы беспрепятственнее и поспешнее переправиться через Буг, под предлогом опасения скорого вскрытия реки. Вот что пишет о том Дибич: «Внезапно наступивший юго-западный ветер произвел такую перемену в температуре, что, после двадцати градусов мороза, 29 числа все поля были уже обнажены от снегу, дороги сделались крайне затруднительными, речки разлились и должно было опасаться, что всякое сообщение между обоими берегами Буга неминуемо прекратится, а посему надлежало поспешить переходом всей армии на левый берег сей реки, где край представляет лучшие сообщения. Правда, что во время трехсуточного замедления армии нашей в Ломзе и Высоко-Мазовецке, наступила сильная оттепель, но в эту часть года, т.е. в конце января, нельзя было ожидать никакого решительного появления весны. Если поля обнажились от снега и дороги сделались грязными, то грязь эта была на одной только поверхности дорог, грунт же их оставался твердым и еще далеко было до разлития рек, ибо самый Буг был беспрепятственно перейден по льду гренадерским корпусом князя Шаховского, шестнадцать дней после появления означенной оттепели, а Висла вскрылась только в начале марта. Так всегда бывает в той части Польши. Для чего же приписывать отступление от начально-избранного предначертания — опасности, которая будто бы угрожала нам вследствие близкого вскрытия Буга? Пользуясь вполне правами главнокомандующего, не от Дибича ли зависело действовать как ему заблагорассудится? Не обладал ли он полною волею следовать по направлению, для него удобнейшему? Если прямой путь к неприятелю представлял затруднения, были пути и вправо и влево: ступай тем или другим, всё хорошо; не ходи только тем, который ведет обратно в Россию. Зачем же избирать кривой путь в сношениях с правительством? На это вряд ли он имел разрешение? Но положим, что изменение начального предначертания произошло от причины, изъясненной в разбираемом нами рапорте, и поспешность, употребленная для перехода на левый берег Буга, основывалась на намерении избежать всякое значительное препятствие между нашею армиею и неприятельскою, следовательно новое предначертание ручалось в быстрейшем достижении главных неприятельских сил и скорейшей развязке возникших споров — генеральным сражением? Всем известно, что для такого решительного удара превосходство в числительной силе весьма не лишнее по той причине, что с гораздо большею вероятностью можно надеяться на победу с 98-тысячною, чем с 78-тысячною массою, при нападении её на 73-тысячную. Сверх того, одним из непростительных стратегических проступков почитается движение армии двумя путями против одного пути, между ними находящегося и занятого неприятелем, — особенно, если эти два пути отделены один от другого естественными преградами, например: реками, озерами, болотами и проч. Для какого же предмета оставлен был весь гренадерский корпус князя Шаховского и отряд генерала Мандерштерна около Ломзы, на ковенском шоссе, лежащем на правом берегу Нарева, во время перехода главной нашей армии на левый берег Буга и при переносе её действия на Брестское шоссе? Тем более, что точка соединения обоих шоссе была в руках неприятельской армии, расположенной впереди этой точки, не в дальнем от неё расстоянии. Что мешало обратить и корпус Шаховского и отряд Мандерштерна вслед за нашею армиею, для которой войска эти составили бы резерв и усилили бы ее через это 20-ю тысячами человек и 72-мя орудиями, вместо того, чтобы вследствие очищения Ковенского пути опасаться неприятельского вторжения по оному в Вильне? Но об этом вторжении неприятель не мог иметь тогда ни малейшего помышления. Решился ли бы начальник польской армии залететь всеми силами за 500 верст от Варшавы, при движении всей нашей армии по Брестскому шоссе к столице? Я уверен, что если неприятелю и пришла мысль двинуться по этому направлению, то она явилась по той причине, что он мог увлечься желанием истребить корпус вчетверо слабейший противу польской армии, который оставлен был в Ломзе, на защиту этого пути, и только лишь потому, что вышеозначенный корпус удалён был от наших главных сил. Следовательно корпус Шаховского, вместо охранения ковенского шоссе, служил лишь приманкою для польской армии, с которой он, по великому превосходству её в силах, не мог и полусуток бороться. Я предоставляю читателю судить, что произошло бы, если б, по разбитии этого корпуса при Ломзе, неприятель, не довольствуясь своим успехом, двинулся бы немедленно к Бугу и далее в тыл армии нашей, направляющейся к Варшаве? Какое влияние возымело бы на дух польской армии и польской нации известие о разбитии 20 тысячного корпуса нашего, при самом открытии военных действий? В какое положение это обстоятельство поставило бы Дибича, находившегося между вооруженною Варшавою, предмостным Пражским укреплением, Модлинской крепостью и польской армией, устремляющейся на него с тылу и могущей легко захватить все его запасы, парки и резервы? Кроме того, неприятель истреблением гренадерского корпуса значительно бы возвысил нравственный дух своих войск. Мне скажут, что такое движение было бы чрезмерно отважно? Согласен, но такими лишь движениями и приобретаются огромные успехи, спасают отечество, живут в потомстве. Размеренные, систематические движения заранее рассчитаны посредственностью и приноровлены к местности, как развод к городской площади; всякий знает, что после чего следует, и куда идти, и куда прийти, и что каждому из фигурантов надлежит делать. Но эти вспышки гения непредвиденны и неисчислимы по своим последствиям, ибо они не только поражают дух неприятельских войск, но ошеломляют, отуманивают главного начальника, ниспровергая все его предначертания. С планами, с обеих сторон по канве расчисленными и систематически размеренными, кампания может продолжаться для обеих сторон до изнеможения сил, как менуэт века Людовика XIV; но нет такой глубоко обдуманной, систематической кампании, которая была бы в состоянии выдержать одно, а много два движения подобных тому, какое следовало бы предпринять князю Михаилу Радзивиллу, при представленном выше распорядке графа Дибича. И да не подумали бы, что подобного рода движения никогда не были приводимы в исполнение? Кто усомнится в этом, пусть раскроет описание кампании Наполеона в 1796 году в Италии. Пусть взглянет на карту и представит себе Вислу, — вместо Адижа; польскую армию вместо французской, Варшаву вместо Вероны; российскую армию вместо австрийской; Дибича вместо Вурмзера; Радзивилла вместо Наполеона; дорогу, идущую от Бреста к Варшаве — вместо дороги, ведущей от Тревизы к Вероне; Давидовича, расположенного при Тренте, вместо Шаховского, расположенного при Ловизе; дорогу, идущую на Трент и далее к Ботцену, — вместо Ковенской дороги; движение Вурмзера от Бассано к Вероне — вместо движения Дибича от Брок и Нуры к Варшаве; разбитие Наполеоном Давидовича при Тренте — вместо разбития, угрожавшего Шаховскому под Ловизою; движение от Трента по Саганской дороге к Бассано, — вместо движения, которое Радзивилл должен был предпринять от Ломзы в Бугу и за Буг в тыл Дибичу, после разбития Шаховского.
Что же касается до движения к Вильне малою частью армии, то могло ли оно быть предпринято, тогда как всё еще было спокойно в Литве, гвардейский отряд находился в окрестностях Вильны и второй пехотный корпус был расположен около Минска? Да и какой сумасбродный полководец осмелился бы отделять на второстепенное и весьма гадательное предприятие какую-либо часть войск от массы, ожидающей с часу на час решительной борьбы с подвигавшеюся к ней, сосредоточенною неприятельскою армиею? И так мне кажется, что не лишнее было бы Дибичу присоединить к нашей главной армии войска Шаховского и Мандерштерна.
12-го марта, граф Тиман и я прибыли в главную квартиру, но Граббе нас опередил сутками. Все подняли меня на руки, прежде нежели я был допущен до высших вождей. Генерал-квартирмейстер Нейдгардт принял меня по дружески. На другой, день мы с Тиманом представлялась фельдмаршалу, который, приняв нас в кабинете, очень обласкал меня, и, говоря со мной, беспрестанно повторял: «Денис Васильевич». Он звал меня обедать и, посадив возле себя, говорил много, шутил и подливал мне и себе много вина, расспрашивал об Алексее Петровиче Ермолове, с которым он так благородно поступил в Грузии[32]. Отведя меня в сторону, он прибавил: «я для вас готовлю хорошее место; подождите немного; завтра приедет граф Толь, мы с ним об этом потолкуем». На другой день по приезде Холя я поспешил к нему. Он, увидав меня, бросился во мне и обнял с следующими словами: «здравствуй, любезный и милый Денис, жду тебя сто лет, послужим вместе, найду тебе дело и славное». В тот же день за обедом у фельдмаршала, возле которого сидел Толь, этот генерал, пожав мне руку, сказал ему: «Ваше сиятельство, надобно дать ему славное место, это давнишний мой друг и приятель с самого 1812 года». — «Да, да, непременно, — отвечал фельдмаршал, — я вас только дожидался».
В местечке Шенице, 15 марта, я получил предписание от главнокомандующего, следующего содержания:
«Господину генерал-майору и кавалеру Давыдову:
С получения сего имеете ваше превосходительство отправиться в город Люблин, где явитесь к генералу от кавалерии графу Витту, — командиру отдельного корпуса в Люблинском воеводстве и коему при сем прилагается предписание, относительно вашего назначения, которое состоит в том, чтобы действовать в роде летучего отряда и составлять в то же время и передовую стражу войск, в Люблине и около сего города квартирующих. Вверяемый вам отряд состоит из казачьих полков: Катасанова, Платова и Кареева, имеющих в подкрепление финляндский драгунский полк, расположенный ныне в Красноставе, по дороге от Люблина к Замостью. Главная обязанность ваша состоит в том, чтобы наблюдать за движениями Дверницкого, находящегося ныне с отрядом из 8-ми или 10-ти тысяч человек в сей крепости и её окрестностях.
Предмет его действий, может быть: с переходом нашим за Вислу, сделать поиск к Люблину, или партиями стараясь взволновать край между Вепржем и Бугом, или наконец, оставя сию пехоту с частью артиллерии в Замостье, а всею кавалериею (в числе коей суть: 5-й и 6-й эскадроны от 1-го, 2-го, 3-го и 4-го конно-егерских и 1-го, 2-го, 3-го и 4-го уланских полков и четыре полка кракусов, каждый в три эскадрона, что и составляет всего 28 эскадронов, (выводящих в строй не более 10-ти рядов, или 2800 человек на коне), стараться из Замостья пробраться через Рахов на левый берег. Первые два предположения менее вероподобны, паче если он узнает, что в Устилуге собраны довольно значительные силы наших войск, при коих есть и казачий полк Попова 3-го, в Грибешове расположенный и имеющий повеление открывать все движения мятежников со стороны Замостья. Третий случай требует большой бдительности, чтобы мятежники, скрыв от вас свои движения, не успели бы в превосходных силах напасть на генерала барона Крейца, в Уржендове находящегося, и, удалив его, пробраться на левый берег Вислы. Известная опытность вашего превосходительства укажет вам способы, как остеречь войска наши от внезапного неприятельского появления, а между тем и средства к беспрестанному его беспокойству, делая на него частые поиски. Для сего необходимо нужно вам быть в весьма тесной связи с генерал-лейтенантом, бароном Крейцом, у коего состоять вам в прямой зависимости и ежедневно доносить о происходящем, как к нему в Уржендов, так и графу Витту в город Люблин, дабы, на случай движения Дверницкого на генерала барона Крейца, могли бы вы сблизиться к нему и соединенно нанести превосходством ваших сил мятежнику поражение. Также нужно будет сохранять от времени до времени сношение с Устилугом, с командиром тамошних войск, генерал-майором Лошкаревым.
Генерал-фельдмаршал, граф Дибич-Забалканский,
№1141
15 марта 1831 года
М. Шеница».
Известно, что в это время фельдмаршал готовился к переходу через Вислу, и для того избрал место между рекою Вепржем и Прагою, против местечка Рыки, где приготовлены были все нужные материалы для построения мостов в несколько часов времени. Из размещения войск ясно видно, что для прикрытия главных сил армии, во время их переправы, фельдмаршал оставил, вправо от них, 6-й пехотный корпус у Дембельвеке, на шоссе, идущем из Варшавы к Брест-Литовску и влево сводный корпус генерала Крейца в Люблинском воеводстве[33]. Из корпуса Розена, отряд под командою Гейсмара поставлен был в Милосне, для наблюдения за неприятельской армией, занимавшей Варшаву, а аванпосты отряда сего находились у самой Пражской заставы. Из корпуса Крейца, отряд под моим начальством должен был расположиться в Красноставе, для надзора за корпусом Дверницкого, находившимся под Замостьем и в окрестностях этой крепости. Из всего этого ясно видно, что важнейшие обязанности в то время лежали на Гейсмаре и на мне, ибо мы были истинными очами главной армии.
Мы должны были неотлучно находиться с глазу на глаз с неприятелем и извещать о малейшем его движении, которое могло быть нам опасным во время нашего движения.
Сверх того, как видно из инструкции, нам надлежало, и после переправы армии, продолжать наблюдения паши за тем же неприятелем, для воспрепятствования ему возбуждать волнения и восстания в краю, лежащем между Вислою и Бугом.
Кто не сознается, что для достижения цели, для коей составлены были отряды наши, необходимо следовало оставить нас независимыми: Гейсмара от Розена, а меня от Крейца, ограничив отношения наши одними частыми извещениями о происходящем? Без этого невозможно было бы иметь верного наблюдения, ибо от непосредственной подчиненности Гейсмара Розену, а меня Крейцу, начальники наши могли, по неосновательным известиям жителей или лазутчиков, перемещать нас: Гейсмара к Модлину или к Оссеку, а меня к Рахову или Хальшу, и отвлекать нас от главного предмета, указанного Дибичем, куда им заблагорассудится. Гейсмару и мне при независимом положении представлялась только одна обязанность: ему стоять у Праги и наблюдать неприятельскую армию у главного её выхода, мне стоять у Красностава и наблюдать за Дверницким, расположенным у Замостья; нам, обоим надлежало немедленно извещать о малейшем движении находившихся против нас войск, как главную армию, так и Гейсмару — Розена, а мне — Крейца.
В вышепредставленной мною инструкции, я не без намерения подчеркнул две статьи, одна другую уничтожающие: во первых ту, в коей излагается весь дух данного мне поручения, т.е. надзор за движениями Дверницкого, а во вторых — о подчиненности моей Крейцу. К чему же столь подробное наставление чиновнику, коего другой, старший ему чиновник, мог одним словом отвлечь от предмета, ему указанного, и через то расстроить все виды главнокомандующего, изложенные в этой бумаге? Не лучше ли было бы прямо и просто сказать: «Ваше превосходительство подчиняетесь генералу барону Крейцу, от коего получите все нужные наставления». И всё тут. По крайней мере через то главный штаб армии избавился бы, и от потери времени на сочинение мне инструкции, и от лишнего расхода чернил и бумаги.
Эта зависимость Гейсмара от Розена, а моя от Крейца произошла не от сомнения в точном исполнении Гейсмаром и мною данных нам поручений, ибо в таком случае избрали бы не нас, а других; а единственно от педантического охранения прав чиноначалия. Главнокомандующий счел необходимым, чтобы Гейсмар,[34] командовавший частью войск, отделенных от 6-го пехотного корпуса, и имевший вблизи этот корпус, находился в непосредственной подчиненности у корпусного командира; та же мысль господствовала и при составлении моей инструкции.
Будучи солдатом тридцать два года сряду, я не восстаю против долга подчинения младшего старшему, но, изучив ремесло свое и вникнув в него, по мере способностей, дарованных мне природою, я думаю, что есть случаи, в которых главному начальнику необходимо переступать за черту обыкновения. Это можно было сделать в особенности для начальника отряда, указавшего еще в 1812 году на пользу партизан, коих обязанности должны быть чужды влиянию всякого над ними начальства, исключая главного.
В строгом смысле зависимость Гейсмара могла быть еще несколько допущена, так как корпус Розена, главная армия и корпус Крейца стояли по одному протяжению и были обращены лицом к общему им направлению, имея, каждая из этих трех частей, собственно принадлежащий ей авангард; одним из авангардов мог почитаться и отряд Гейсмара. Но Дверницкий, находясь около Замостья, был совершенно отделен от польской армии, занимавшей Варшаву, следовательно и отряд мой, назначенный для наблюдения за ним, должен был быть, подобно ему, отделен от нашей армии, которая, как и главная неприятельская, были расположены за Вислою. После этого само собою разумеется, что отряду этому, ни под именем авангарда, ни под каким-либо другим названием или предлогом, не следовало принадлежать к корпусу Крейца. Этот корпус, подобно корпусу Розена, находясь в составе главной армии, был подчинен общей системе действий и составлял отдельное левое, как корпус Розена отдельное правое крыло главных сил наших, обращенных лицом к Висле, т.е. в сторону, почти противоположную той, в коей обращен был мой отряд, занимавший Красностав и наблюдавший Дверницкого, стоявшего около Замостья.
Стоит только бросить взгляд на карту и вспомнить размещение войск наших в то время, чтобы удостовериться, что истинный авангард Крейца находился между Вепржем и Юзефовым под командою генерала Пашкова; авангард же главной армии, выступившей тогда из Шеницы, через Желихов к Рики, охранял правый берег Вислы, упираясь в Вепржу; авангард Розена, под командою Гейсмара, стоял пред Прагою. Польза независимости моего отряда и неудобство подчиненности, которою меня оковали, окажутся в своем месте.
Достойно замечания и то, что в инструкции, Дибичем мне данной, изложены только три предположения: 1-е) предприятие Дверницкого между Вепржем и Бугом на Брест-Литовский; 2-е) движение его к Люблину в тыл корпуса Крейца, расположенного около Уржендова и 3-е) движение, через Рахов на Вислу, для соединения с главною польскою армиею; но ни слова не было сказано о возможности вторжения его на Волынь и далее, что однако не могло не броситься в глаза. И в самом деле, не достаточно ли ручались в этом вторжении: 1-е) удобство положения Замостья, под пушками которого находился корпус Дверницкого, 2-е) обнажение от войск наших Волынской, Подольской и Киевской губерний? Хотя из инструкции и видно, что в Устилуге стоял генерал-майор Лошкарев, но он командовал только слабым отрядом, подкрепленным сводным корпусом генерала Ридигера, весьма еще малочисленным по случаю неприбытия всех войск, в состав его назначенных. Он был следовательно весьма недостаточным для отражения десятитысячного корпуса Дверницкого, привыкшего одерживать успехи и составленного из кавалерии, пехоты и артиллерии. 3-е) естественная невозможность царства Польского продолжать борьбу с Россиею, без распространения мятежа в западных губерниях, что не иначе можно было привести в действие, как посредством войск, отделенных от главной армии мятежников, и наконец 4-е) дух вражды ко всему русскому, господствовавший искони во всех западных губерниях, и усилившийся со времени восстания царства, успехов наших под Милосной и Гроховым, коими главнокомандующий наш не умел воспользоваться, и также частных поражений, нанесенных Дверницким Гейсмару и Крейцу, поражений, преувеличенных недоброжелателями России. Если бы Дверницкий, по переправе через Вислу в Пулаве и по изгнании Крейца из Люблина, в исходе февраля, ограничился занятием этого центрального пункта южной части театра войны, тогда не было бы возможности предусмотреть вторжения его на Волынь. Всё, что можно было бы предвидеть, это набеги его из Люблина к Седлецу, или к Биале, т.е. на путь сообщения нашей армии с Брестом или на её левый фланг, во время расположения её около Шеницы, Паризова, Литович и Сточека, или быстрое отступление его обратно за эту реку, (находившуюся от него на расстоянии лишь одного сильного суточного перехода) в случае движения на него части армии нашей из-за Вепржа. Но когда, по занятии Люблина, по вскрытии Вислы, при неимении ни моста, ни паромов на этой реке, Дверницкий, оставив Люблин, двинулся к Замостью, — тогда не трудно было, видя, что он совершенно отделяется от главной польской армии, постичь истинное его направление, долженствовавшее непременно простираться гораздо далее Замостья; можно было отгадать, что целью его похода Волынская губерния, ибо какой, мало мальски понимающий ремесло свое, начальник решится предать в руки неприятеля кратчайшее и, можно сказать, единственное сообщение свое с своею главною армиею, для того только, чтобы поглядеть на крепость, вовсе в нём не нуждавшуюся ни для усиления своего гарнизона, ни для снабжения себя оружием; напротив, прибытие туда новых сил должно было уменьшить средства пропитания, получаемые ею из окрестностей?
Не взирая на то, весьма ясно видно, что наш главнокомандующий не только не постиг возможности этого вторжения, но и первые два предположения, более третьего с ним сходные по своему наступательному свойству, бросил в данную мне инструкцию так — par acquit de conscience, чтобы не совсем быть грешным пред алкораном немецкой методики. Главное внимание обращено было на преграждение Дверницкому обратного отступления за Вислу.
Вот для чего и помещен был один из полков моих в Желкевке и в Высоком, с повелением ему делать разъезды за Щербжечин и Франполь; вот для чего и помещен был корпус Крейца не в Люблине, а в Уржендове, ближе к пути отступления Дверницкого, о чём он не гадал и не думал.
Мне следовало бы выехать из Шеницы немедленно по получении инструкции. Уже товарищи мои, Граббе и граф Тиман, разъехались по местам, им назначенным. Первый, на второй день по приезде нашем, в первый пехотный корпус, где он был назначен начальником штаба; последний, на третий день, в отряд Гейсмара, бригадным командиром конно-егерских полков Тираспольского и Арзамасского. Некоторые лично до меня касавшиеся обстоятельства задержали меня и я, против воли, должен был остаться в Шенице до 16 числа.
Независимо от моего одиночества, главная квартира сама собою мне смертельно надоела! В течении службы моей, я никогда не служил при главных квартирах, но случалось мне быть присылаемым туда, или с известиями, или за приказаниями от князя Петра Ивановича Багратиона, бессменного начальника авангардов наших армий, во время воин наполеоновских, у коего я имел честь и счастье быть адъютантом пять лет сряду. Впоследствии, командуя сам отдельными частями, я был призываем в главные квартиры, для доставления сведений о неприятеле и получения секретных приказаний для внезапных на него нападений. Я помню главную квартиру Бенингсена, в 1806 и 1807 годах, в восточной Пруссии; я помню главную квартиру графа Каменского, в Турции; я помню главную квартиру Кутузова, в великий год войны отечественной; — не говорю уже о главных квартирах Шварценберга и императора Александра, в 1813 и 1814 годах. Какое многолюдство! Какая роскошь, какие веселости всякого рода! Это были подвижные столицы со всеми их очарованиями! Было где нашему брату, авангардному жителю, пристать и осушить платье, загрязненное на биваках, обмыть пахнувшие порохом усы в бокалах шампанского, натешиться разговорами и обменом остроумия в любезнейших обществах, напитаться свежими политическими новостями и отдохнуть от всечасного: Кто идет? Садись! и от беспрестанных расспросов: Где неприятель? Сколько? Пехота или конница? Есть ли пушки?.. и проч.
Но в этой войне, главная квартира напоминала колонию квакеров, или обитель трапистов. Конечно, я не мог жаловаться за себя; фельдмаршал удостоил меня отлично благосклонным приемом. Сверх того и начальник главного штаба, по приезде своем из Люблина, обошелся со мною, можно сказать, совершенно по дружески, за что я обоим им душевно благодарен; но справедливость не дозволяет умолчать, что как для меня, так и для других ничего не было утомительнее этой печальной, педантической, аккуратной в распределении времени главной квартиры, где видимо преобладала крайняя нерешительность. В ней всё наводило истинную тоску и грусть: пустота на улицах, нигде пяти человек вместе, кроме караула главнокомандующего, или так называемых деловых людей! Эти последние, то отправлявшиеся безмолвно в канцелярии, то отсюда к фельдмаршалу, представляли собою как бы процессию церковного причта, ходящего с запасными дарами к лежащему на смертном одре грешнику. Им не доставало только продолжительного колокольного звона и псалмопения: а квартира фельдмаршала, подобно святыне, не иначе была доступна для нас, как во время скудного и скучного его обеда. Всё это было хорошо для стяжания царства небесного, но не для покорения царства польского. Русской армии необходима блистательная, многолюдная, шумная, веселая, роскошная главная квартира, или скромная, но победная[35], подобная Суворовской. Если где нибудь можно извлечь какую нибудь пользу из веселых и любезных, но ни к какому делу не прикладных тунеядцев, то это в русских главных квартирах, откуда гром музыки и разливной хохот молодежи всюду распространяется; сколько я приметил, это всегда повторяется во всех корпусных, дивизионных и полковых штабах и рождает то расположение духа в войсках, которое есть залог успеха; разумеется только тогда, когда при веселости, возбуждающей бодрость в массах, мы видим в главной квартире и глубоко обдуманные предприятия и быстрое, неизменное исполнение единожды избранного намерения.
Независимо от уныния, подавлявшего нашу главную квартиру, нужно признаться, что наружность фельдмаршала много вредила её важности и блеску.
Безрассудно было бы требовать от начальника черт Аполлона, кудрей Антиноя, или стана Потемкина, Румянцева и Ермолова. Физическое сложение не во власти человека, да и к чему оно? Не гремели ли славою и хромые Агесилаи, и горбатые Люксембурги, и рыжие Лаудоны? Но можно, должно и во власти Дибича было озаботиться по крайней мере о некотором приличии в одежде и в осанке, о некоторой необходимой опрятности. Неужели помешали бы его важным занятиям несколько пригоршней воды, брошенной, на лице грязное, и несколько причесов головы сальной и всклокоченной? Он, как говорили приверженцы его, был выше этого мелочного дела; но имел ли он право так презирать все эти мелочи, когда сам великий Суворов тщательно наблюдал за чистотою одежды и белья, им носимых? Вообразите себе человека низенького, толстенького, с опухлою и воспаленною физиономиею, не бритого, не умытого, с рыжими, нечесаными волосами, падающими почти до плеч, как у маймиста, в запачканном сюртуке, без эполет. Всё это было приправлено какими-то застенчивыми и порывистыми ужимками, ухватками и приемами, означающими выскочку, обязанного своим повышением лишь слепой Фортуне; он ежеминутно озирался исподлобья и наискось, высматривая, не возбуждает ли он насмешливых улыбок или взглядов людей, его окружающих?
Таким я видел Дибича в Шениц Странность телодвижений, безобразие и неопрятность его простирались до того, что самое ласковое обхождение его, самая благосклонность его ко мне, разговоры, суждения, шутки, часто остроумные, приятные и веселые, не имели силы победить отвращения к нему присутствовавших. Я не знаю, что происходило в душе других при виде Дибича, но что касается до меня, я не преставал напрягать мысли мои, чтобы убедить себя в том, что под этою неблаговидною оболочкою скрываются превосходные таланты, и вместе с тем невольно был смущаем безотчетным инстинктом, говорящим мне, что я сам себя обманываю, что Дибич не на своем месте и что мы с ним ничего славного не предпримем и не сделаем. Сверх того жестоко терпела во мне и гордость россиянина, когда приходили к нему обедать, находившиеся при его особе, комиссары дружественных с Россиею дворов Австрийского и Прусского[36]. Стыд выступал огненными вспышками на грустном лице моем и я невольно переносился мыслями в прошедшее.
Я вспоминал Бенингсена, длинного и возвышавшегося над полками как знамя, холодного как статуя командора в Дон Жуане, но ласкового без короткости, благородного в речах и в положениях тела, вопреки огромного своего роста; одаренного тою степенностью, которая приобретается через долговременное начальствование, и словом, по обращению с подчиненными, истинного вождя вождей сильной армии. Я вспоминал умного, злого, вулканического Каменского, вполне понимавшего великолепное подножие, на которое, он был возведен судьбою тридцати-двух лет от роду. Я вспоминал нашего Ахилла наполеоновских войн, моего Багратиона, его горделивую поступь, его орлиный взор, его геройскую осанку, его магическое господствование над умами людей, превышающих его в учености, и наконец его редкий дар сохранять, в самых дружеских сношениях с ними, преимущество первенствующего лица, без оскорбления ни чьей гордости, ни чьего самолюбия.
Я вспоминал скромного, важного, величественного Барклая, как будто привыкшего с самых пелен начальствовать и повелевать, тогда как за пять лет до достижения им звания главнокомандующего, я сам видел его генерал-майором, вытягивавшимся пред Багратионом, дававшим ему приказания. Я уже не говорю о Кутузове; пятидесятилетняя репутация этого умного, тонкого, просвещенного и любезнейшего собеседника блистательнейших европейских дворов и обществ, полномочное посольство при Екатерине и отечественный 1812 год, достаточные мерила глубокой и верной оценки им людей и умения владычествовать над ними всеми родами очарования.
Я невольно наконец вспоминал и об Ермолове в Грузии, где он хотя и не носил звания главнокомандующего, но был им на деле; его величавая осанка, классические черты лица, глаза, исполненные жизни и огня, не могли не пленить войск и жителей того края. Неуклонная справедливость при большой строгости, редкое бескорыстие, обширные сведения, особенно по части военного искусства, замечательный дар слова и в особенности ласковое и вежливое со всеми обращение стяжали ему удивление, любовь и привязанность войска и горцев, трепетавших при его имени. Бывший митрополит Грузии Феофилакт, одаренный замечательным умом, в донесениях своих министру духовных дел называл Ермолова мудрым правителем Грузии; граф Каподистрия, в письмах своих к нему, называл его всегда une âme antique. Ермолов с ничтожными средствами упрочил владычество русских в этом краю, водворил порядок, привлек поселенцев, возбудил промышленность и торговлю, открыл новые источники доходов, создал новые военные дороги, воздвиг укрепления на всех пунктах, открытых его орлиным взором, наконец построил столицу там, где были: куча саклей и два караван-сарая. О всё это совершено было с примерным соблюдением казенного интереса; редко проходил год, чтобы он не представил один или два миллиона экономии; самый госпиталь и комиссариатское здание в Тифлисе построены были на счет, оставшейся после посольства его в Персию, суммы, которую бы он имел полную возможность удержать у себя. Но главный его подвиг состоит в преобразовании духа командуемых им войск; под его начальством каждый солдат становился героем, готовым идти в ад по гласу обожаемого вождя. Горько было ему быть изгнанным с поприща своих славных подвигов; столь безрассудное удаление его с служебного поприща, лишив Россию отлично умного, просвещенного, энергического и бескорыстного слуги, есть ничем неизгладимое пятно на памяти государя, постоянно окружающего себя лишь льстецами ничтожными, корыстолюбивыми, бездарными и невежественными.
Если бы от неимения порядочной квартиры в Шенице, местечке скудном, не отвели мне квартиры в двух верстах от неё, в деревне Погоржеле, где стоял гренадерский полк императора австрийского, напоминавший мне, что я в армии, и если бы не адъютанты главнокомандующего, милая и любезная молодежь, к которой приставал я каждое утро по приезде моем в Шеницу, которая меня закормила, запоила и, так сказать, отогрела замерзавшую душу мою, я бы не знал, куда деваться. 16 марта, отобедав у князя Михаила Горчакова, тогда начальника артиллерии действующей армии, я выехал к своему месту. Около вечера я сбился с дороги и вместо Паризов попал в Лановичи, где расположен был штаб гренадерского корпуса; я подъехал прямо к квартире корпусного командира, князя Ивана Леонтьевича Шаховского, и провел у него ночь; а 17 поутру отправился далее на Желихов, куда в тот день перешла главная квартира из Шеницы. Вся армия, кроме 6-го пехотного корпуса и сводного корпуса графа Витта, была в движении в переправе. Ростепель была ужасная: густая грязь, по колена лошадям и по ось повозкам, весьма затрудняла движение.
На пути от Серочина к Сточеку осмотрел я поле сражения, первого неудачного нашего дела в этой войне. Я ехал именно по дороге через лес от деревни Колодзя к Сточеку, по коей выскакал переяславский конно-егерский полк с храбрым и знающим свое дело генерал-майором Пашковым (Александром Васильевичем). Я любовался голыми возвышениями, закрывавшими войска Дверницкого, и обширною плоскостью, за ними лежащею, по которой ему было столь легко, свивая и развивая войска свои, направлять главные свои натиски, куда ему заблагорассудится. Не будучи видимым нашими войсками, он мог следить за малейшим их движением и наблюдать за ними как на ладони. Я удивился и невольно содрогнулся, увидя на каком расстоянии находился конно-егерский короля виртембергского полк в то время, когда по повелению Гейсмара, Пашков, увенчав им высоты, ударил на неприятеля прежде, нежели второй полк, долженствовавший поддержать удар его, успел обогнуть оконечность леса! Расстояние это было столь велико, что неприятель, расстроив переяславский полк, успел обратиться всеми своими силами на полк короля виртембергского, который понес участь подобную первому. В добавок к тому, резерв этих двух подков, состоявший из конно-егерских полков тираспольского и арзамасского и двенадцати орудий, оставлен был в Серочине, за пять верст от поля битвы! Я пожал плечами и поехал далее!
К вечеру я прибыл в Желихов, куда только что пришла главная квартира. Пристанище мое было у полкового командира атаманского полка, Кузнецова, который сам стоял у казачьего полковника Рудухина, находившегося в свите великого князя Константина Павловича и тогда числившегося в гвардейском отряде, который, под командою генерала графа Куруты, был уже на походе к Коцку.
Так как путь мой лежал через это же местечко, то 18-го по утру мы с Рудухиным выехали верхом к Коцку. Две брички наши едва тащились и наконец так отстали, что я со своею увиделся только в Люблине. Вся дорога была завалена повозками, на каждом шагу выбивающимися из грязи, и изнуренными лошадьми гвардейского отряда, здесь оставленными, или уже издохшими на дороге.
В Окрже мы сделали привал и там я увидел большую часть этих хваленых войск, для подражания коим еще недавно стекались в Варшаву все истые любители фронтовой службы в российской армии. О подлинно, я увидел истинно подвижную Гатчину: всё застегнуто от глотки до пупа! Всякая пуговица, всякий ремешок, всякая пряжечка, всякий солдат, вахмистр, офицер и генерал на месте, уставом им определенном! Зато какое изнурение, какие лохмотья! Как всё грустно, всё скудно людьми и лошадьми, хотя отряд ни разу еще не нюхал пороха! Педантство начальников в военное время есть тягчайший ранец, тягчайший вьюк для подчиненных. Войску русскому необходима распашка, веселость и строгий порядок, без щепетильной взыскательности; тогда только оно здорово и бодро, — а если к этому еще добрая пища и победы, тогда и конь топочет и солдат хохочет, и нет для него недосягаемого и неодолимого.
Мы ночевали в Гуловской воле и 19-го рано по утру выехали в Коцк. Вдруг на половине дороги нам послышались пушечные выстрелы, коих направление казалось со стороны Вислы. Сначала я полагал, что эти выстрелы производились по рабочим нашим, близ мостов находящимся, и по войскам, к ним подходящим, но гул выстрелов вскоре усилился и продолжался до самого вечера. Ясно оказывалось, что это была не простая канонада, а сильная битва. В последствии мы знали о нападении польской армии на Гейсмара и на Розена. Довольно замечательно, что от того места, где мы были в то время, до Милосны, где происходило сражение, более ста верст по прямой линии. Правда, что день был ясный и легкий ветерок дул со стороны битвы.
Мы провели ночь в Коцке. 20-го, распростясь с Рудухиным, я сел в почтовую повозку и приехал в Люблин, где явился в графу Витту. 21-го я пробыл в Люблине и обедал у графа. 22-го я ночевал в Песках, а 23-го к обеду достиг наконец моего отряда в Красноставе.
Начальник главного штаба, граф Толь простер до того благосклонное внимание свое ко мне и нетерпение доставить мне средства удовлетворить мое рвение в службе, а может быть и собственное желание свое воспользоваться без замедления моими, по мнению его, способностями, что прежде, чем узнал о прибытии моем в главную квартиру, он составил уже означенный отряд и поручил его полковнику Анрепу, с оговоркою: до моего приезда. Полковник Анреп ожидал меня с часу на час и следовательно приезд мой нимало не удивил его. Однако нельзя не отдать справедливости благородному поступку сего отличного офицера, при сдаче отряда, им командуемого. Сколько я знаю чиновников, истинно достойных и по качествам душевным и по военным дарованиям, которые исполнили бы сдачу сию по правилам, простирающимся до той черты, от которой начинается любовь к общей пользе и забвение собственного неудовольствия; ибо, как ни говори, а для молодого штаб-офицера сдача такового отряда, каков был мой, когда неприятель под глазами, не только прискорбна, но это есть великое несчастье. Анреп[37] сдал отряд мне так, как немногие. Он сообщил мне все известные ему подробности о корпусе Дверницкого, о Замостьской крепости, о распоряжениях своих, о мнении своем относительно надзора за неприятелем; он изложил мне порядок службы, им заведенный, объездил со мною аванпосты свои, объяснив, по каким предположениям и для чего каждый пикет на такой то возвышенности, на таком то скате. Он показал при этом на карте дороги и пункты, до коих доходили его разъезды и, рассуждениями своими на счет общих и сего отряда частных обстоятельств, он меня обрадовал находкою в армии столь ревностного и благородного офицера. Полковник Анреп, отличающийся своею воинственною и можно сказать рыцарскою осанкою, служил также впоследствии с большим усердием.
Говорят, что он похож на покойного отца своего, убитого в 1807 году в чине генерал-лейтенанта, при Морунгене, во время войны нашей с Наполеоном в восточной Пруссии. Отец его пользовался общим уважением всей российской армии: его воинственная наружность, чистота нравственная, твердость душевная, светлый разум и замечательная служба обворожили всех. Я его не знал, но по приезде моем в армию в 1807 году, первое мертвое тело, которое я встретил, было тело этого отличного генерала.
Общая диспозиция войскам сводного корпуса в люблинском воеводстве, на 21-е марта была следующая:
«Отряд генерал-лейтенанта барона Крейца составляется:
из 2-й драгунской дивизии,
1-й бригаде 2-й конно-егерской дивизии,
гренадерской дивизии (3 полка) 6-го пехотного корпуса,
и казачьих полков:
Платова,
Киреева,
Хоперского,
Грекова и
Катасанова.
С сим отрядом генерал-лейтенант Крейц действует отдельно и, с получением сего, все свои донесения делает уже прямо г. главнокомандующему армиею. Генерал-майоры Пашков и Муравьев и полковник Анреп (эта бумага писана была за несколько часов до моего прибытия в Люблин и потому сказано Анреп, а не Давыдов) поступают в команду генерал-лейтенанта Крейца.
Главные силы отряда генерала Крейца остаются расположенными около Уржендова.
Генерал-майор Пашков с одним полком конных егерей и казачьим Грекова полком содержит посты по Висле, от Вепржа (или от постов, выставленных от главных сил вдоль Вислы и по левому берегу Вепржа) до Юзефова, а от Юзефова до Завихвоста, по Висле, содержит посты казачий полк Хоперского.
Полковнику Анрепу (т. е. Давыдову), оставаясь в своем нынешнем расположении, усилить посты в Горшкове и в Желкеве, для удобнейшего наблюдения за неприятелем и сношения с главными силами генерала Крейца.
Несвижский карабинерный полк 21-го числа собирается в Казимирже, а 22-го следует к местечку Ополе. Один из конно-егерских полков с 4-мя орудиями конной роты №28 переходит 22-го числа в Вржеловец. Дивизион драгунского герцога Александра Виртембергского полка, ныне находящийся в Люблине и Глуске, следует 22-го числа с конною батарейною ротою №27 в Недржевице-Косцельна под командою полковника Шилинга, коему, приняв в свою команду и луцкий гренадерский полк, расположенный в Недржевице-Дюжу, доносить прямо генералу Крейцу, а равно и генерал-майору Муравьеву. Самогитский гренадерский полк остается в городе Люблине под командою генерал-майора Муравьева, как равно легкая рота №2, 6-го пехотного корпуса.
Рота литовского саперного батальона остается по прежнему в Казимирже в ведении генерал майора Бракера и в составе отряда генерал-лейтенанта Крейца.
Все сии войска отныне прекращают свои донесения к г. командующему отдельным сводным корпусом (графу Витту) и должны относиться во всём к генерал-лейтенанту барону Крейцу».
Эта бумага — последнее завещание графа Витта в люблинском воеводстве. Немедленно после того, он, усилив своими войсками корпус Крейца, выступил с остальными войсками к главной армии, подвигавшейся в местечко Рыки для переправы за Вислу. Он оставил корпус Крейца между корпусом Дверницкого, стоявшим под пушками Замостьской крепости и корпусом Серавского, расположенным за Вислою, насупротив местечка Пулавы и Казимиржа. В то время все говорили, что отряд Серавского состоял из 7 или 8 тысяч человек новонабранного и худо вооруженного войска.
Отряд мой, принадлежавший к корпусу Крейца, занимал Красностав финляндским драгунским и казачьими Катасанова и Платова полками. Полк Киреева расположен был в Желкевке и Высоком. Первые заботы мои, по вступлении в командование вверенным мне отрядом, были, как я сказал, немедленно объехать аванпосты для осмотра окрестностей Красностава, и для знакомства с войсками, коим было объявлено в приказе о поступлении их под мое начальство. Вместе с тем я отправил курьера к генералу Крейцу с рапортом о моем прибытии и о принятии отряда, в мое ведение; и наконец послал партию для открытия сообщения с генерал-майором Лошкаревым, выставив казачий пост в местечке Войславице для этого же предмета. Партии для наблюдения за Дверницким производили поиски свои по устроенному полковником Анрепом порядку; они ходили с одной стороны от Красностава до Ситанца, с другой из Желкевки почти до Седлиска, а из Высокого до Щербжечина и Франсполя.
Я узнал, что генерал-майор Лошкарев наблюдал отрядом своим течение реки Буга от с. Кладнова, что против Дубенки, до местечка Летовижа, смежного с австрийскою Галициею.
В Грубешове стоял от него казачий Попова полк, а в Устилуге два резервных батальона 26-й пехотной дивизии. Гусарская бригада, состоявшая при этом отряде, заключала в себе 1350 сабель, казачий полк в 350 пик и два батальона в 660 штыков.
Отряд сей принадлежал к сводному корпусу генерала Ридигера, который сам с передовыми войсками своего корпуса прибыл во Владимир Волынский еще 7 марта. С ним прибыли туда 2-я и 3-я бригады 11-й пехотной дивизии в весьма расстроенном составе и заключавшие в себе не более 1700 штыков. Прочие войска, долженствовавшие образовать его корпус, были еще далеко и приближались с различных пунктов. И так у генерала Ридигера состояло в команде всего 1800 сабель и 2420 штыков для защиты волынской, подольской и киевской губерний против десятитысячного корпуса, коим предводительствовал предприимчивый Дверницкий и против многочисленного шляхетства означенных губерний, тайно вооруженного и ожидавшего с нетерпением прибытия Дверницкого для общего восстания.
Теперь оставим Лошкарева в Устилуге, Ридигера во Владимире, мой отряд в Красноставе, Крейца в Уржендове, а неприятельских генералов: Дверницкого у Замостья и Серавского за Вислой и перенесемся за Вепрж, за Буг, за Нарев и посмотрим на положение войск наших, там находившихся до 19 марта. Граф Витт, усилив корпус Крейца частью войск своих, был на походе из люблинского воеводства за Вепрж, для поступления в состав главной армии.
Главная армия находилась на походе из Шеницы на Желихов и Рыки, для перехода Вислы между устьем Вепржа и местечком Казеницы, на левом берегу реки лежащим.
6-й пехотный корпус Розена находился на брестском шоссе у Дембелевки, имея авангард свой под командой Гейсмара в Милосне, а аванпосты его у самой заставы варшавского предместья Праги.
2-й пехотный корпус графа Палена находился на походе из белорусского Минска, через Брест-Литовск, к Седлецу на подкрепление Розена.
Гвардия в Ломзе.
Отряд Сакена в Остроленке.
Нигде еще не было слышно ни единого выстрела; всюду господствовали тишина и спокойствие!
Первая вспышка проявилась вне круга боевых происшествий. Далее, в тылу правого крыла действующей армии возникает мятеж в шавельском и тельшевском уездах Виленской губернии, и почти в то же время (14 марта) корпус Уминского подходит к Остроленке. Пора сказать о цели движения Уминского.
Многие полагали, что причиною этого движения была надежда, после четырехнедельного бездействия, застать врасплох отряд Сакена и гвардию и, воспользовавшись их усыплением, одержать какой-либо успех на Нареве. Другие думали, и это правдоподобнее, что Скржинецкий, выславший Уминского, имел в виду мысль подобную той, которая 12 дней после того была приведена в исполнение Дверницким, то есть: вторжение в наши границы и доставление помощи восставшей шляхте виленской губернии (восстание, о коем польское правительство было заблаговременно извещено), возбуждая при том в подобному же восстанию и прочие литовские губернии, еще доселе спокойные. Как бы то ни было, но натиск Уминского не удался, и он, после нерешительного покушения на Остроленку, остался в окрестностях Пултуска и Сироцка, При всём том мятеж, возникший в части виленской губернии, не переставал распространяться далее и далее!
События такого рода при Начале наступательного движения должны были неминуемо иметь влияние на нерешительного, пылкого и своенравного Дибича. Он, как и все подобного рода люди, подчинялся впечатлению изменяющихся обстоятельств, и уже при открытии кампании твердость духа его поколебалась от неисполнения предначертаний своих, которые впрочем не были приведены в исполнение от неумения, или скорее нежелания воспользоваться победою под Гроховым. Дибич дрогнул, увидя, что счастье начинает ему изменять; это свойство всякого баловня Фортуны, лишенного от природы той твердости душевной, той самонадеянности в собственных дарованиях, которые одни побеждают препятствия. Но эти два испытания были только предисловием более тяжких и гораздо еще более горестных. 10 марта, то есть спустя одни сутки по получении тревожных известий о мятеже в Литве и движении Уминского, и спустя трое суток после выступления главной армии из окрестностей Шеницы, состоялся общий натиск главных сил польской армии из Варшавы на Гейсмара и Розена, по брестскому шоссе, в трех переходах от Дибича, во время марша его к переправе.
Это событие было весьма естественно; неужели Скржинецкий потерпел хотя бы на один час времени пребывание корпуса Розена, разбросанного по зимним квартирам, в присутствии главных сил, им предводимых? Бездействие его до 19 числа основывалось на опасении натиска главных сил наших в тыл его войскам во время напора их на Розена; едва узнал он об отбытии Дибича за Вепрж и предании Розена собственным силам и произволу судьбы, немедленно воспользовался и не мог не воспользоваться превосходством своим над войсками, против него находившимися. Фельдмаршал предвидел этот случай еще пред выступлением из Шеницы, ибо я сам 10 поутру видел призванного к главнокомандующему Розена, которому было поставлено на вид, что главный предмет его состоит в немедленном отступлении к Бресту, при малейшем на него нападении; он должен был соединиться на пути со 2-м пехотным корпусом, идущим от Бреста, который они должны были защищать как хранилище складов и всего для армии необходимого.
И так, если натиск Скржинецкого на Розена был в порядке вещей, а сверх того еще и предвидим фельдмаршалом, то не надлежало ли ему до начатия своего движения прибегнуть к следующему простому рассуждению: нападение главных неприятельских сил на Розена может ли ниспровергнуть план, основанный на движении к Висле и на переходе её, и угрожает ли оно существованию нашей армии? Если оно чем-либо угрожало нам, то надлежало остаться около Шеницы; через то спасти от расстройства план кампании и существование армии, и, вместо движения к Вепржу и перехода Вислы, придумать какое-либо предприятие другого рода. Если же оно ничем не угрожало нашей армии, то следовало, оставив Шеницу, переправиться через Вислу, и, что бы ни приключилось с корпусом Розена или с другими отдельными частями, надлежало, не изумляясь ничему, не упадая ни от чего духом, стремиться наперекор всем препятствиям к достижению цели, единожды избранной. Это не есть с моей стороны рассуждение, как говорится, задним умом; это даже не есть собственно рассуждение военного человека, но всякого, который решается на какое-либо предприятие военное ли, гражданское-ли, мануфактурное ли, торговое ли, хотя бы частное и лично до него касающееся, И так, если главное начальство решилось уже двинуться к переправе, невзирая на уверенность в нападении неприятеля в превосходных силах на корпус Розена, то независимо от непоколебимости воли, необходимой для достижения предмета, им единожды избранного, ему надлежало прибегнуть к следующим предосторожностям, требующим особенного его внимания. Во первых, до выступления армии из Шеницы, надлежало озаботиться насчет продовольствия Розена так, чтобы он мог прокормиться провиантом, привезенным уже из магазинов Бреста к месту, им занимаемому. Это дозволило бы ему, имея все войска в сборе и сосредоточенными на одном пункте, отразить натиски неприятеля; он мог бы не разбрасывать войск для пропитания по зимним квартирам, как то случилось при нападении на него польской армии, Это в несчастью должно было неминуемо случиться, ибо на шоссе не было ни куска, ни обывательского, ни запасного казенного хлеба; во вторых, соображаясь с весеннею ростепелью и с положением дорог того времени, а вместе с тем и с заранее предвиденным уже отступлением корпуса Розена к Седлецу (что совершенно открывало тыл нашей армии, во время её движения из Шеницы, к углу, образуемому Вепржем и Вислою) следовало предварительно отправить вперед все парки, обозы и тяжелую артиллерию, дабы прикрыть эти тяжести армиею, а не армию прикрывать тяжестями. Мы были свидетелями сего чудесного распоряжения…
Зависимость моя от генерала Крейца произвела обстоятельства, которые можно было предупредить, оставив меня независимым и подчинив лишь графу Толю; при этом мне следовало однако извещать немедленно обо всём происходящем, как генерала Крейца[38] так и генерала Ридигера[39], занимавшего границу нашу по Бугу, а головными колоннами самый Владимир. Прибыв в Красностав, я немедленно придвинул разъезды свои до Замостьской крепости для ближайшего наблюдения за Дверницким, которого я не должен был допускать к Висле, а потому я занимал дистанцию в 60 верст от Красностава до Высокого. Этот отличный и предприимчивый генерал в течении настоящей кампании разбил барона Гейсмара, взяв у него 8 пушек, Крейца, у которого взял 5 пушек и генерала Бавера, у которого взял 3 пушки; но за неимением у меня пушек, он не мог ими обогатиться. В тот же день по собственному побуждению послал я от себя разъезды для открытия сношений с Ридигером. Чрез два дня получил я от Крейца диспозицию на 25-е число, в которой сказано было: «отряд г.м. Давыдова располагается в Пяски». Исполняя это повеление, я немедленно известил о том Ридигера, который, от 27 марта за №524, уведомил Крейца, что так как по всем слухам Дверницкий думает идти на Волынь (чему он по слабости сил не может противиться, но будет вынужден отступить за реку Стырь для присоединения к войскам, к нему подходящим), то он убедительно просит оставить меня в Красноставе, прибавив: «даже я полагаю, что нахождение отряда Давыдова в Красноставе весьма много содействовало тому, что Дверницкий до сего времени оставался в Замостье». Но Крейц не только не возвратил меня в Красностав, но 29 марта прислал мне новую диспозицию, в коей было сказано: «г.м. Давыдову делать поиски на местечко Туробань до реки Гутта и далее; если же Дверницкий прошел уже на Медлиборжище и Закликов, то генерал-майор Давыдов быстро должен двигаться по следам его». Крейц в этом случае действовал наобум, ибо, отдалив меня от Красностава, он лишался средств получать верные сведения о движениях Дверницкого, который, по его мнению, должен был обратиться к Висле на соединение с Сераковским, о переправе коего на правый берег Вислы ходили уже слухи. На основании данного мне предписания я уже 1 апреля был на марше из Туробани на Щербжечин, открывая моими партиями Франсполь и Бельгерой. Дверницкий же, на другой день выступления моего из Красностава, сосредоточил свои войска у Замостья и, перейдя быстро Буг в Крылове, вступил в наши границы, на Волынь. Если бы я не был подчинен Крейцу, то ни в каком случае не двинулся бы в Пяски, и оттуда к Щербжечину; понимая, что главная моя обязанность состояла в том, чтобы наблюдать за Дверницким, я хотел даже 26-го двинуться в Ситанцу, деревне, отстоящей от Замостья в 10 верстах. Вскоре Крейц узнал о истинном направлении Дверницкого, об отступлении Ридигера, о восстании Волыни, и о том, что Подолия и Окрестности Киева также в сильном волнении. Крейц, обвиняя меня в том, что я проглядел Дверницкого, за которым обязан был наблюдать, предписал мне идти по его следам. Следуя мимо самого Замостья, гарнизон коего не только не делал вылазок, но даже не показывался, я, 4 апреля, находясь на сообщении Дверницкого с этою крепостью, захватил несколько курьеров и небольшие отряды его. Переправясь за Буг, я был поражен следующим зрелищем: на месте, где неприятель еще недавно располагался лагерем, водружены были довольно высокие шесты, на вершине коих были привязаны мешки. По осмотре мешков оказалось, что они вмещали в себе возмутительные прокламации. Поляки, не понимая высокой русской души Ермолова, которого они почитали глубоко оскорбленным и пылающим местью к своей родине, напечатали от его имени возмутительную прокламацию к русским[40]. Эти прокламации, пересланные в главную квартиру, были поспешно доставлены в Петербург. Ермолов, извещенный об этом происшествии, был глубоко оскорблен тем, что самые нелепые клеветы были столь легко и охотно удостоены внимания в Петербурге и, не имея возможности действовать оружием, он разил по крайней мере своих врагов насмешками. Он писал к брату моему Евдокиму: «Этого мало, вы верно услышите об одержанных мною победах, в которых жестокая судьба так долго отказывает фельдмаршалу Дибичу». Перейдя Буг в Крылове по мосту, по которому следовал Дверницкий, я предал его огню и взял 6 апреля приступом город Владимир. Бой живо кипел! Стар и млад, шляхта и духовенство, военные и мещане, всё стреляло из окон, из-за заборов и оград и, подобно лазам или лезгинам, не просило пощады. Бой продолжался непрерывно в продолжении 4-х часов; с моей стороны были спешены 3-й дивизион Финляндского драгунского полка, под командою полковника Кологривова, и большая часть полка Катасанова; все же прочие войска были на коне. Победа увенчала мою решительность; фельдмаршал и граф Толь, будучи весьма довольны мною, вошли обо мне с представлением о награждении орденом св. Георгия 3 класса, чего я однако никогда не удостоился получить. Движение мое на Владимир не было плодом необдуманного предприятия, но последствием обмана жителей Крылова, которые меня уверили что Дверницкий во Владимире, где я однако поставил всё верх дном и отбил навсегда охоту бунтовать. Я не мог поспеть 7 апреля, то есть в день сражения Ридигера с Дверницким, к Боромелю, но если бы я явился туда хотя на другой день, то был бы не лишним. Впрочем и Владимир был пунктом весьма важным, как средоточие одного из главных мятежнических ополчений, в Волынской губернии. В газете варшавской было сказано: «генерал Толь, узнав о выступлении генерала Дверницкого на Волынь, отрядил из своего корпуса часть войск для действия противу него. Когда этот отряд, под начальством генерала Давыдова, проходил близ Замостья, гарнизон крепости сделал счастливую вылазку. Письма из Замостья от 20 числа утвердительно удостоверяют, что корпус генерала Давыдова разбит Волынским ополчением во время переправы его через Буг». Невольно вспомнишь Наполеона, который узнав, что австрийцы, им совершенно разбитые, утверждают противное, сказал: «Laissez les faire, les rêves sont toujours la consolation des malheureux». Узнав во Владимире о поражении Дверницкого Ридигером под Боромелем, я обратился поспешно на путь сообщения его с Замостьем, пролегавший вдоль границы австрийской Галиции. Расчёт мой был верен, но Ридигер, искусным направлением своей кавалерии, оттеснил Дверницкого от этого пути и принудил его обратиться к Берестечку и Почаеву. Подойдя к Дружнополю, мои разъезды встретились с разъездами Ридигера, посланными для разведывания о Сераковском, который, по слухам, спешил на соединение с Дверницким. Узнав от них об истинном направлении Дверницкого, я обратился через Владимир к Ковелю, где сильное скопище мятежников производило страшные неистовства. Одно приближение мое к Ковелю заставило мятежников поспешно бежать и искать спасения в лесистых болотах. На основании предписаний Крейца, я, перейдя границу в Устилуге, расположился в Блонках для наблюдения за Замостьем.
В самый день взятия Владимира Крейц разбил Сераковского под Казимиржем. Польские газеты того времени осуждали Сераковского за переход его через Вислу, тем более, что у него из 7000 человек едва 1000 человек были снабжены ружьями. Между тем корпус Дверницкого, теснимый Ридигером, бросился на австрийскую границу; Ридигер остановился и протестовал; австрийцы поспешили обезоружить Дверницкого.
Узнав о неудачах Сераковского и Дверницкого, Скржинецкий, находившийся у Седлеца, отрядил из главных своих сил семи-тысячный отряд при 10 орудиях, под командою начальника главного штаба Хржановского, коему велено было спешить на выручку Дверницкого. Подойдя, никем незамеченный, к Коцку, Хржановский был однако открыт здесь партиею корпуса Крейца, который, отрядив против него отряд генерала Фези, сам двинулся к Любартову; Фези был разбит, но Крейц, соединясь с ним, настиг в Любартове отряд Хржановского, который, остановившись на левом берегу Вепржа, где не было ни мостов, ни бродов, беспечно варил кашу. Крейц, пришедший из Люблина, атаковал Любартов, занятый арьергардом неприятеля, и этим дал ему время опомниться, построиться и отступить с малой потерей на Ленчну, где сам Крейц остановился, пустив в погоню за Хржановским легкий отряд графа Алексея Петровича Толстого. Таким образом ускользнул от нас Хржановский, которого можно было превосходно покупать в реке Вепрже. Можно еще было поправить эту ошибку следующим образом: Крейцу следовало из Ленчны, усиленным маршем, следовать через Бискупице в Красностав и, перейдя здесь Вепрж по прекрасному мосту, пресечь дорогу в Замостье Хржановскому, который, двигаясь на Шедлище и Райовец описывал дугу, тогда как Крейц мог идти хордой. Дорога, по коей шел Хржановский пролегала болотами, лесами и плотинами, а Крейцу предстояло следовать по дороге гладкой и открытой. Муравьев[41] советовал предпринять это движение, но его не послушали. С своей стороны Хржановский тотчас понял опасность, которой подвергался, и, узнав о поражении Дверницкого, с неимоверной быстротой направился на Красностав; перейдя здесь реку, он сжег мост. Между тем Крейц воротился в Люблин и занялся составлением реляции, превосходящей всякое вероятие. О сражении под Любартовым, отстоявшем от меня во ста верстах, я ничего не знал; и в то время я находился в Блонках, верстах в 10-ти от дороги, по коей должен был следовать Хржановский. Если бы корпусный командир заблагорассудил предупредить меня о дальнейшем движении Хржановского, я мог бы легко преградить ему дорогу около Руколона, Краслыгина, Сургова, Заставы, где, изломав мосты и плотины, я бы его надолго задержал. Но обо мне забыли, и я был извещен о деле под Любартовым и о направлении неприятеля лишь за час пред рассветом 29 апреля. Я тотчас устремился к Избице, но неприятель, двигавшийся всю ночь, прошел уже это местечко и направлялся быстро к Старому Замостью. Я здесь соединился с графом Толстым, командовавшим авангардом нашего корпуса. Здесь сошлись четыре генерала: граф Толстой, Анреп, Шиллинг и я; так как я был старший, то граф Толстой подъехал ко мне с рапортом, но я сказал ему: «ваше дело слишком хорошо начато, чтобы я похитил у вас и начальство и успех: продолжайте, я же стану помогать вам». Если бы Замостье находилось не в 12-ти, а в 30-ти верстах, то вероятно весь неприятельский корпус, крайне утомленный, побросал бы оружие. Но Замостье было близко, и он остановился, хотя с большою потерею. Все мы разошлись, а мне вновь приказано было наблюдать за Замостьем. Тем кончился нахальный, можно сказать, поход Хржановского от Седлеца к Замостью посреди нашей армии. И здесь хотели обвинить меня и графа Толстого в том, что Хржановскому удалось спастись. К этому нужно прибавить, что за сутки до получения мною известия о появлении Хржановского в Коцке, Крейц без всякой надобности отобрал у меня финляндский драгунский полк, который потому не мог быть, ни со мною под Старым Замостьем, ни с Крейцом в Любартове. Спустя несколько дней, он отобрал у меня еще два полка казачьих и оставил меня с одним полком Киреева, в коем было не более трехсот человек.
Я не жалуюсь на Крейца[42], человека доброго, но малодушного, как в отношении своих врагов, так и в отношении своих приятелей. Он был всегда со мною хорош, и впоследствии остался таковым же, но у него был начальник штаба, барон Деллингсгаузен, зародыш Макка будущих российских войн, имевший на него неограниченное влияние. Деллингсгаузен стал делать неудовольствия Муравьеву, Пашкову, Анрепу, графу Толстому и мне; Крейц же всё молчал, как мокрая курица и извинял его в письмах своих ко мне; короче, Крейц был у него как б… на содержании. Всё, мною здесь сказанное, основано на письменных официальных документах; сам великий Деллингсгаузен не имеет документов достаточно сильных, чтобы опровергнуть те, которые у меня за подписью Крейца и за его собственною подписью.
Не могу понять почему, после остроленской победы, которую можно назвать первым кризисом в нашу пользу, вдруг оказалось столь необходимым присутствие в главной армии корпуса Крейца, коему приказано было, не ожидая смены своей Ридигером, оставить люблинское воеводство и спешить на соединение с армией? Ридигер же, который должен был сменить его, едва перешел еще границу в Устилуге и не прежде мог двинуться к Люблину, как по прибытии Кайсарова, который должен был заступить его место и иметь предметом охранение Волыни. Между тем около Замостья находился корпус Хржановского, в 80-ти верстах за Вислою корпус Дзеконского, коего передовые посты доходили до Курова и до Белжады; войсками его корпуса были сильно заняты Казимирж, Пулава и Голомб, где были мост и предмостное укрепление. Подобное повеление Крейцу могло быть объявлено ему до остроленского дела, когда готовы были всем жертвовать для усиления нашего главного корпуса, ожидавшего встречи с главными неприятельскими силами. Казалось, благоприятный исход дела должен был неминуемо изменить все обстоятельства, по крайней мере относительно поспешного выступления Крейца из Люблина до смены его Ридигером, который с своей стороны не щадил ни убеждений, ни просьб, чтобы склонить Крейца не уставлять берегов Вислы и Вепржа до своего появления в окрестностях Люблина. Если Дибич уже решился не оставлять корпуса Ридигера, состоявшего из 9000 человек при 48 орудиях, для защиты Волыни и удержания этого края от неминуемого восстания, то следовало бы ему по крайней мере присоединить его к главным силам своим, а не давать ему направления частью на Люблин, частью на Сточек и даже за Вислу, для рассеяния вновь формировавшихся неприятельских войск; эти войска, которые не могли быть сильными, должны были сами по себе рассеяться при одном известии о поражении главной польской армии, и для этой важной цели нам следовало напрягать все умственные и вещественные усилия наши. Крейц выступил 19 мая из люблинского воеводства, на защиту которого им была оставлена лишь 2-я конно-егерская дивизия, состоявшая из 1600 человек, не имевших ружей, с изнуренными лошадьми, хоперский казачий полк, Киреева полк в 300 человек, всего 2100 коней. Им надлежало наблюдать за Неприятелем на протяжении от Красностава до Завихвоста, отсюда до Бобровников, и отсюда до Коцка; кроме того надо было занять центральный пункт Люблин достаточным числом войск. Из города были вывезены Крейцом на подводах весь хлеб и овес; больных же, которых следовало перевезти в числе 1200 человек, оставили в госпиталях города, где кроме того брошено было на произвол судьбы много пороху, зарядов и оружия! Даже 48-му егерскому полку, выступившему в Россию для укомплектования себя людьми, которому ничего бы не стоило оставаться в Люблине хотя несколько лишних суток, приказано было Крейцом, невзирая на все просьбы Пашкова, остававшегося начальником в воеводстве и в городе, поспешнее выступать. Жители не помнили себя от радости и явно говорили, что на днях в город вступит польский корпус, который неминуемо возьмет в плен всех русских. Это было весьма правдоподобно.
В это время, то есть 20 мая, Ридигер, под начальство, которого я поступил уже 8 дней, дал мне из Комарова следующее повеление: «оставить Киреева полк для наблюдения за Замостьем, спешить самому в Люблин и принять под свое главное начальство все войска воеводства». Я прибыл 24-го в Люблин, где узнал о победе под Остроленкою и о прибытии нашей главной армии к Пултуску. Поляки, почитая меня жестокосердым, трепетали при имени моем. Я, подобно знаменитому нашему Алексею Петровичу Ермолову, с намерением рассеивал эти слухи, чтобы не быть вынужденным часто карать непокорных. Я находился некоторое время в крайней опасности, от которой избавился лишь видимым милосердием божиим. Как было не воспользоваться Дзеконскому отдалением моим от главной армии, находившейся за Наревом, отдалением от Ридигера и наконец выступлением Крейца, которого он мог значительно удержать и не допустить до Пултуска? Кроме того, пользуясь малочисленностью моего отряда, он мог без больших усилий захватить 1200 больных, много пороху, зарядов и несколько сот ружей, в коих мы сильно нуждались; но и кроме того для него было всего важнее овладение Люблином, где он мог легко соединиться с Хржановским, который с своей стороны не замедлил бы прибыть туда, следуя через Красностав и Пяски. Сосредоточение сил неприятельских могло быть для нас тем более гибельным, что в то же время Скржинецкий готовился со всею армиею выступить из под Праги в Люблину. Движение это, предпринятое им лишь неделю спустя, не имело успеха только потому, что Ридигер находился в то время уже в Люблине. Зная мою слабость, он прислал во мне отряд генерала Плохова и вскоре сам сюда явился. Зная меня и Плохова со времени войны в Финляндии, Ридигер питал к нам большую дружбу и постоянно оказывал большое доверие. Мне было поручено начальство над 20 эскадронами кавалерии и казачьим полком при нескольких орудиях. Известясь о движении Свржинецкого, Ридигер быстрым движением за Вепрж успел поразить часть его армии под Лисобиками или Будзиском. В этом сражении, где Ридигер с 6-ю тысячами человек одержал блистательную победу над 20 000 польских войск, я, командуя авангардом, состоявшим из конно-егерской дивизии Пашкова и 2-х егерских полков 19-го и 20-го при 6-ти орудиях, выдерживал в продолжении 3-х часов напор неприятеля, значительно превосходившего меня числом. (Здесь сражалась противу меня польская гвардия.) Появление Ридигера, лично атаковавшего неприятеля за лесом, решило судьбу сражения. Благодаря Бога, я опрокинул неприятеля и соединился с Ридигером, который, слыша сильный с моей стороны огонь, весьма опасался за меня. После сражения он меня при всём корпусе благодарил. В этом деле Плоховым взяты были много офицеров и рядовых, обоз с артиллерийскими зарядами и ящик с казной, где найдено было до 5000 рублей. Возвратясь в Люблин и узнав о выступлении из Замостья Хржановского, Ридигер прогнал его за Вислу. Он поручил мне преследование неприятеля с 29-ю эскадронами, при которых находились генералы: Квитницкий, Ольшевский, Плохов, граф Тиман; он сам возвратился в Люблин. Неприятель бежал так быстро, что я не мог его догнать. Этим вполне блестящим и мало известным подвигом Ридигеру удалось отстоять Люблинское воеводство: это — единственная классическая операция в продолжении всей войны, которая достойна изучения, и Жомини не может не быть в восторге, узнав какую деятельность и энергию выказал здесь Ридигер. В Люблине Ридигер праздновал свои успехи; за обедом, за которым было до 60 человек (я был в отсутствии), он между прочим сказал: «когда я в Лисобиках услыхал ужасный огонь со стороны авангарда, трехчасным жестоким боем успевшего удержать стремление главных неприятельских сил, я, признаюсь, подумал, что если Давыдова собьют, мне будет плохо, но Давыдов блистательно опрокинул неприятеля». Я во время преследования сделал две ошибки, за которые, знаю, он весьма сердился. Когда я прибыл из авангарда и признался в них с первых слов, Ридигер, вместо того, чтобы по крайней мере сделать мне за то замечание, стал себя обвинять и уверять меня, что если я не сделал того, что следовало, то этому причиною он сам, с чем я однако никак согласиться не мог. Я никогда ни с одним начальником не был столь близок, как с Ридигером, который был обыкновенно не только мягок, но весьма серьезен и строг; но я кроме незаслуженного внимания, ничего от него не видал. Зная его с ротмистерского чина, потом полковником и генерал-майором, я никогда не мог думать, чтобы он был одарен столь замечательными военными способностями и столь самостоятельным характером. Он мне позволил и даже просил сообщать ему письменно и словесно всё, что мне придет в голову. Я часто позволял себе давать ему советы, за которые он не знал как меня достаточно благодарить. Я весьма радуюсь и горжусь тем, что в этом подвиге был ему главным помощником, в особенности в Лисобиках, где принял на свой щит главный удар неприятеля, о чём он беспрестанно говорил и за что баловал меня самым дружеским обращением. У нас с ним не было секретов; едва получал он какое-либо известие или важную бумагу, тотчас посылал за мною, сообщал мне всё и мы с ним по нескольку часов сидели вместе. По представлению моему, принятому с благодарностью Ридигером, сделана была по люблинскому воеводству публикация; мною написанные правила для аванпостной службы отданы были по его желанию в приказе. Видя его военные дарования, решительность и деликатное со мною обращение, я глубоко уважаю его как одного из отличнейших, благороднейших и добродушнейших генералов наших.
Если бы корпуса Дзеконского из-за Вислы, Хржановского из Замостья и главная неприятельская армия, оставив достаточные гарнизоны в Люблине и Праге и наблюдательные отряды против Ридигера и Розена, сосредоточились у брестского шоссе лицом к Пултуску и Остроленке, и развернули свои колонны от Брок к Ружиполю и Остроленке в тылу нашей армии, мы неминуемо понесли бы жесточайшее поражение.
В июне граф Паскевич-Эриванский[43] вступил в командование армиею. Я не мог питать уважения к этому человеку, потому что гнусные его доносы на Ермолова мне были слишком известны. Он принадлежал к числу безграмотных; Грибоедов сочинял ему приказы и даже частные письма. Он, не довольствуясь уже отправленными в Петербург доносами, приказал написать от имени Аббас-Мирзы письмо, в коем Ермолов был обвинен в вероломном нарушении мира.[44] По его приказанию была вырезана армянином печать, весьма походившая на печать, которую Аббас-Мирза обыкновенно прикладывал в своим грамотам и письмам; это подложное письмо, снабженное этою печатью, было отправлено в Петербург с адъютантом главнокомандующего графом Опперманом. Этот факт известен всем лицам, состоявшим в то время при Паскевиче. Невзирая на всё это, я, как русский, желал ему от души быть генералиссимусом, даже принцем крови, лишь бы война могла быть им окончена скоро и молодецки.
Я опять с 25 июля в Красноставе и вновь наблюдал за Замостьем, откуда нельзя было ожидать никакого нападения с тех пор, как Хржановский удалился в Варшаву. В Люблине жители повесили носы, говоря, что вскоре наступит мир; хотя этого и нельзя было предвидеть так скоро, но слухи эти ясно доказывали, что поляки почитали свое дело окончательно проигранным. У поляков еще до этого времени началась ужасная анархия; начальник существовал лишь для командования войсками в военное время; вне поля сражения войска не признавали властей, и отбирали у жителей последнее, говоря, что это для отчизны.
Война эта мне казалась даже невыносимою, ибо я часто со слезами на глазах находился вынужденным отрывать родителей от детей и отсылать их. Но к утешению моему Крейц и в особенности Ридигер весьма строго наблюдали за тем, чтобы солдаты наши не дозволяли себе грабить жителей.
19-го июля я, командуя отрядом на Висле, делал фальшивую переправу, стрелял из орудий и ружей в Пулаве и это одно из последних действий моих в течении кампании. Корпусу нашему велено было переходить Вислу и в диспозиции было сказано: «весь корпус переходит Вислу по мосту в Юзефове 25 июля, а отряд генерал-майора Давыдова в Пулаве с 24 на 25-е». Там моста не было, но я успел построить и поставить две барки, которые могли вместить 50 человек пехоты, и два плота, на коих можно было поставить человек 10 с лошадьми. Отряд мой состоял из 100 человек стрелков, 1-го казачьего полки и 7-ми эскадронов конных егерей. Весь противоположный берег был взрыт длинным валом, за коим сидели неприятельские стрелки, которые стреляли по всякому подходившему с нашей стороны. И так мне надлежало с сотней стрелков держаться противу превосходного числом неприятеля более суток, ибо ранее, и то с большим трудом, нельзя было перевезти моей конницы, потому что река широка и быстра, плоты же были сделаны на-скоро, гребцы нашлись с трудом, к тому же всё это должно было совершаться под выстрелами неприятеля. Все мы видели явную гибель, к которой стремились, но я, 30-тилетний солдат, хотя и сознавал вполне свое опасное положение, должен был беспрекословно исполнить повеление. Целый день трудились мы над исправлением плотов и паромов, подвергаясь во всё время неприятельским выстрелам. При наступлении ночи я стал готовиться к переправе; так как офицеры и стрелки обнаруживали большую робость, я решился сесть на первую барку и ехать с ними, можно сказать, на убой.
Когда уже совершенно стемнело, я начал садиться в первую барку с 50-ю стрелками; по всему противоположному берегу затрещали выстрелы, град пуль стал осыпать нас и в самое короткое время ряды солдат убитых и раненых пали вокруг меня. Едва только хотели мы отчалить, как послышались с нашей стороны крики: «ваше превосходительство, курьер». Я выскочил из барки и при огне фонарей прочел: «отменить переправу и идти к мосту на Юзефов». Еще секунда, мы бы отчалили, полетели бы по быстрой Висле и уже никакой курьер не мог бы нас спасти. Огонь неприятельский был так силен, что в Пулаве ранен был мой человек. Тут человеческого ничего не было: один Бог был виновником нашего спасения; я от полноты душевной принес ему самую жаркую молитву за столь чудное спасение! Полковник польский, командовавший на противоположном берегу, будучи впоследствии взят в плен, говорил мне что он, зная о нашей переправе, ожидал нас с нетерпением, чтобы всех нас истребить.
В двадцатых числах августа я командовал отрядом в предмостном укреплении на Висле, близ Казимиржа. Варшава была еще в руках неприятельских. Вдруг неприятель в довольно больших силах, приблизившись в нам, выслал на приступ две колонны; так как я знал, что это были толпы мужиков, предводимых Ружицким, я открыл по ним сильный огонь, от которого они рассеялись, Ридигер, бывший постоянно моим ангелом-хранителем, бодрствовал по своему обыкновению; он явился, и преследовал на расстоянии 30 верст неприятеля, который при этом лишился 1000 человек убитыми и пленными — 15 офицеров и 500 рядовых. Чрез два дня я узнал, что 10 000-ый корпус генерала Ромарино, преследуемый Розеном, направляется на меня; так как у нас было всего 1200 человек, я потому поспешил известить о том Ридигера, находящегося в 50 верстах. До получения моей бумаги, он мне предписал с одним батальоном и четырьмя орудиями спешить в Радом на подкрепление принца Адама Виртембергского[45]. Я послал к нему другого курьера, причём писал, что полагаю свое присутствие в укреплении более необходимым. Получив повторительное приказание выступить, я на рассвете 1 сентября двинулся, но на половине дороги меня настиг новый курьер с приказанием ночевать и возвратиться назад. Утром получил я следующее донесение от генерала Слатвинского, остававшегося в укреплении: «Видя пред собой неприятеля в весьма больших силах, я нашелся вынужденным оставить укрепление правого берега и, перейдя реку, сжег мост». Он поступил весьма благоразумно и основательно; неприятель, за неимением моста, двинулся к австрийской границе, где, преследуемый русскими, положил оружие. Так как Слатвинский не успел кой-чего перевезти на тот берег, он подвергся сильным нареканиям[46]. Я бы испытал тоже самое, но к счастью Бог меня от того спас.
К нам стало возвращаться много офицеров, бывших в плену, которые были свидетелями ужасных неистовств варшавской черни. Некто ксендз Пулавский ходил в полном облачении и с крестом в руках, со слезами умоляя народ истребить всех пленных русских и евреев. Несколько десятков евреев было повешено на фонарных столбах. Генерал Янковский за неудачу свою под Лисобиками (или Будзиском), генерал Буковский и каммергер Фенш были изрублены и повешены. Графиня Гауке была также изрублена и повешена. Полковница Баханова, изуродованная сабельными ударами, была повешена в глазах своей дочери, тщетно умолявшей о пощаде и получившей удар штыком в бок. Пленный офицер наш Кетлер был повешен вследствие просьбы какой то женщины, которая просила народ, в случае несогласия на то, повесить ее. Офицеры наши, возвратившиеся из плена, рассказывали, что чернь варшавская и войска всенародно объявили, что если меня возьмут в плен, то тотчас повесят. При них объявлено было несколько раз, что Ридигер и я взяты и что нас везут в Варшаву, где нам потому заготовлялись почетные квартиры и на другой день мы должны были быть повешенными; «слышите ли, — говорили поляки, — что партизан Давыдко (это было мое прозвище) идет на нас, жжет и рубит всё без пощады; смотрите, будьте пока осторожны, но мы его скоро возьмем и повесим». На аванпостах спрашивали часто о принце Адаме Виртембергском, коего ненавидели за то, что его мать была княжна Чарторыжская и он сам прежде служил в польских войсках, о Ридигере, который своими славными победами навел на них страх, и обо мне недостойном.
Читать по теме:
- Денис Давыдов — Записки Дениса Васильевича Давыдова, в России цензурой непропущенные. Часть I
- Денис Давыдов — Записки Дениса Васильевича Давыдова, в России цензурой непропущенные. Часть II
- Денис Давыдов — Записки Дениса Васильевича Давыдова, в России цензурой непропущенные. Часть III
- Денис Давыдов — Записки Дениса Васильевича Давыдова, в России цензурой непропущенные. Часть IV