В склянке темного стекла
Из-под импортного пива
Роза красная цвела
Гордо и неторопливо.
Исторический роман
Сочинял я понемногу,
Пробиваясь, как в туман,
От пролога к эпилогу.Припев:
Каждый пишет, как он слышит,
Каждый слышит, как он дышит,
Как он дышит, так и пишет,
Не стараясь угодить…
Так природа захотела,
Почему — не наше дело,
Для чего — не нам судить.Были дали голубы,
Было вымысла в избытке,
И из собственной судьбы
Я выдергивал по нитке.
В путь героя снаряжал,
Наводил о прошлом справки
И поручиком в отставке
Сам себя воображал.Припев.
Вымысел не есть обман,
Замысел — еще не точка,
Дайте дописать роман
До последнего листочка.
И пока еще жива
Роза красная в бутылке,
Дайте выкрикнуть слова,
Что давно лежат в копилке.Припев.
1975 Булат Окуджава: «Я ПИШУ ИСТОРИЧЕСКИЙ РОМАН»
Помню, когда я назвала учителю немецкого имя своего любимого писателя — Фейхтвангер — он назидательно поправил — Фойхтвангер (в немецком дифтонг «eu» читается, как «ой»). Этот эпизод вспомнился на вебинаре И.А.Дедюховой, где рассматривался роман «Испанская баллада» и где прозвучало, что, не смотря на еврейское происхождение и на доминировавшую в его произведениях еврейскую тему, писатель он, всё-таки, немецкий, поскольку существовал в немецкой среде и освоил/воспринял культуру сформировавшейся к тому моменту немецкой нации, сравнительно недавно приобретшей собственную государственность. Там же (на вебинаре) прозвучало следующее: «Как еврей (после этнических чисток, гонений, что безусловно невыносимо ранит и сильно задевает саму человеческую природу), он судорожно искал выход для своего малого народа после пережитой трагедии».
Но до всех ужасов второй мировой войны писателем был пережит кошмар Первой мировой войны. Если до этого он был эстетствующим молодым человеком, увлеченным театром, писавшим пьесы и рецензии, то после стал создавать романы, и большей частью исторические.
Лион Фейхтвангер (Feuchtwanger, Lion) – выдающийся немецкий писатель и драматург.
В своих произведениях, главным образом исторических романах, обращался к острым социальным проблемам. Им создан новый тип интеллектуального исторического романа, где за описаниями отдаленной эпохи явственно проступает второй план – параллели с событиями современности.
Причем, похоже эти параллели с современностью актуальны до сих пор, иначе сложно объяснить, хотя бы, вот такую реакцию.
Наталья В. Иванова поделилась ссылкой.
Леон Фейхтвангер «Испанская баллада» « Книжная лавка
В последних своих романах, «Испанская баллада», и «Иеффай и его дочь», Фейхтвангер развивал идеи прогресса и гуманизма. В 1954 году Лиону…
ogurcova-portal.com
Евгений Лобков эти романы — такая херня…
Наталья В. Иванова А что так?
Евгений Лобков не… с прогрессом и гуманизмом там все в порядке. тексты херовые
Наталья В. Иванова Вау! Он, как раз, блестящий стилист с необычайно оригинальным мышлением. Может вам это недоступно?
Евгений Лобков у него есть два приличных романа. Но последние — это уровень журнала «Лехаим»
Наталья В. Иванова Не читала. И, боюсь, что ваше суждение неверно.
Евгений Лобков читал. дамские романы
Наталья В. Иванова Ну так бы и сказали, что вкус себе испортили. После дамских романов надо долго очухиваться и «подниматься» постепенно, хотя бы, через романы Дрюона.
Вот после русской классики «золотого века» читать Фейхтвангера можно спокойно, а после дамских романов — напряг…Евгений Лобков не. Фейхтвангер — несмотря на мюнхенское образование остался на уровне жмеринской писательской организации
Наталья В. Иванова Обоснуйте.
Евгений Лобков Сентиментализм, национализм, литературный популизм.
Наталья В. Иванова Ух ты! А как это классно подходит и к «Войне и миру».
Ирина Дедюхова Евгений Лобков тут соглашусь! Но «мюнхенское образование» в болтологии вам не позволило уяснить, что большая проза на исторические сюжеты с серьезной геополитикой — пишется на базе сознания НАЦИИ, а евреи — национальность, преследуют частные интересы. идущие вразрез с интересами НАЦИИ. Что Фейхтвангер замечательно показывает в «Еврее Зюсе». Его никак нельзя использовать в местечковом кипеже, хотя он судорожно пытается искать проходы, ту самую «роль в истории». А даже в погромах «Герцогини Маульташ» показывает, что эта этническая общность противопоставляет свои интересы — интересам всего общества. Так что… к еврейскому национализму это не прилепишь, здесь менталитет НАЦИИ, как ни крути. История получает «связь времен», что соответствует литературной популяризации. А искомая нынче душевность в сентиментализме Диккенса, Фейхтвангера… не в социалистическом реализме, верно? Так что полученная в Мюнхене бумажка — не факт действительной образованности и душевной щедрости. Хотя признаю, что с Фейхтвангером, хлебнувшим еще после Первой мировой вполне бытового жизненного реализма, местечковых ждал серьезный облом. Он настоящий немецкий писатель, не еврейский. Чтобы иметь свою большую литературу, евреям надо пройти путь становления НАЦИИ. ставя интересы Родины — выше собственных. Иначе-то никак! И начинается там все ведь не с большой прозы, а с фольклора! Курочкой Рябой не обзавелись — пошли в Фейхтвангера пригребать до кучи. Ведь типа он — еврей, значит, все евонное — яврейское! Какое-то зашкаливающее бескультурье… Нечто на уровне доноса и мародерства. А, спрашивается, это они создали культурную среду, где реализовался гений Фейхтвангера? Потом начинают рыльце воротить, типа это Фейхтвангер такой плохой, слишком сентиментальный. Действительно, зачем сантименты сообществу вымогателей, доносчиков, рэкетиров, ростовщиков, сутенеров и мошенников на доверии?..
Евгений Лобков Фейхтвангер шибко обижался, что его мотивы Фейт Харлан использовал в фильме «Еврей Зюсс».
Ирина Дедюхова Евгений Лобков важно то. что в сухом остатке. В своей прозе он не может не быть объективным. После романа, а не комментах в соцсетях, бесполезно давать дополнительные пояснения. Там уже образы сложились и живут своей жизнью. Фейхтвангер — писатель, а созданное им — литература, поскольку у него есть образы. Как человек, он не мог оставаться равнодушным к этническим чисткам Второй мировой, это действует на уровне физиологии. Поэтому не стоит путать его творчество и его личную трагедию. Но и отделять личность писателя от творчества — тоже некрасиво.
Наталья В. Иванова Евгений Лобков Да, да, в третьем рейхе книжки сожгли, а вот фильм по «Еврею Зюссу» поставили. Больно уж сюжет красноречивый.
Ирина Дедюхова Да… каждый раскрывает образы по своему мировоззрению. Но… это уже свойство живого литературного образа. Образ еврея Зюсса не может быть оправданием этническим чисткам.
Наталья В. Иванова Веймарская республика достала всех. Все против неё и выступили, …но с разных позиций.
Евгений Лобков Эренбург Фейхтвангера люто ненавидел, а почему — не объяснил…
Ирина Дедюхова Да! И… вот Фейхтвангер в разного рода сиюминутных социальных общественных процессах проявляет честность и объективность. Его пытаются сегодня наизнанку вывернуть против Сталина, а ничего не получается. Он выше идеологий и социальных клише. Говорю же, у меня были претензии из-за Бомарше. Но потом все перепроверила… и признала, что трактовка Фейхтвангера — честная. объективная.
Наталья В. Иванова Ирина Дедюхова , Так он о том и написал, что ответственность за преступления должна быть личной, а девушку (дочь главного героя) губить — это не хорошо, виселица — лишь для её отца.
Ирина Дедюхова Евгений Лобков а сам-то Эренбург — пустое место! А хотел быть гуру в большой прозе со своим недопырком «Буря». Сталин его подверг критике, не дав с 1944 г. разжигать ненависть к мирному населению Германии. Это Эренбург требовал убить всех до последнего немца, грабить и жечь. То есть там нравственности — ноль.
Наталья В. Иванова Евгений Лобков Да за «иудейскую войну», где про создании книги и механизм объединения все подробненько расписано.
Наталья В. Иванова Ирина Дедюхова Что, правда, «Буря»?! Совсем ребята с катушек съехали — тоже мне, Шекспир нашелся.
Ирина Дедюхова Это как раз — образчик местечкового реализма. вот тоже чуть не съехала с катушек по поводу Розенкранца и Гильдестерна Стоппарда. А чо? Нормально так! Прижопили… и вперед с песней. А вот Фейхвангер плохой, т.к. он до конца истории дописывает, он обычно заканчивает тем, что получается, когда бездумно чужое присваивают: чужую жизнь, чужую историю…
Ирина Дедюхова Я полагаю, что Эренбург Шекспира не читал. Как и Стоппард, впрочем. Да и большинство критиков Фейхтвангера не читало его в том возрасте, когда это необходимо. Угу, в подростковом возрасте! Уровень начитанности местечковых критиков и «литераторов» меня перестал поражать давно. То, что они критикую большую прозу, выдирая несколько фраз из контекста, это уже говорит о многом. Стоппард дальше списка действующих лиц так и не продвинулся. Фраза «ни один нормальный человек не прочтет более 10 страниц «Тихого Дона» — уже классика жанра. Но именно с Шекспиром у меня есть… просто охренительная история на Валентинов день. Потом расскажу. После этого мне никто не докажет, что там хоть кто-то и хоть что-то соображает в литературе. Они все уверены, что это все пишется ради премий и синекуры. а не для того, чтобы это читали. Поэтому и ничего, кроме «образа автора» на фоне чужой литературы создать не могут.
Наталья В. Иванова Интересно, а что так взъелись на Фейхтвангера? Это ж не занюханный Шолом Алейхем с местечковым мышлением и редкостными соплями.
ЛФ мыслит масштабами и эпохами, выявляет интересные механизмы и исторические коллизии. Дрюону до него пахать и пахать.Наталья В. Иванова Очень интересен момент с тем, что в сети нет информации о его пьесах, немецкие статьи о нем не переведены, справочный материал о нем же закрыт.
Правда, почему?
В том, что Фейхвангер обладает ментальностью нации, можно убедиться, обратившись к одному из его последних романов — Ифтах и его дочь.
Эта вещь о власти, об ответственности во власти, о месте личного во власти и о плате, которую приходится отдавать, находясь во власти.
Ну, давайте по порядку. Дело происходит в ветхозаветные времена.
…жизнеописание Ифтаха в Библии заключено всего в 47 фразах. Какими же нужно было обладать знаниями, какое творческое воображение надо было иметь и сколько вложить труда, чтобы создать роман, который смело можно поставить в ряд лучших произведений об истории древнего мира.
Незаконнорожденного (от матери-аммонитки) сына умершего судьи рода Гилеад Ифтаха сводные братья и их мать изгоняют из дома. Вместе с женой (тоже аммониткой), дочерью и небольшим числом приверженцев он уходит в пустыню. В трудных условиях кочевой жизни он создает войско и завоевывает ряд городов. Тем временем Гилеад оказывается под угрозой захвата врагами. Родственники, которые прогнали его, обращаются к Ифтаху за помощью. Ифтах сначала с помощью дипломатии, затем в кровопролитной битве одерживает победу. В кульминационный момент сражения, когда события разворачиваются не в его пользу, Ифтах обращается за помощью к Господу, обещая отдать ему в жертву первого, кого встретит по возвращении. К его удивлению и несчастью этим человеком оказывается его любимая и единственная дочь. Испытывая страшные муки, Ифтах все же выполняет свою клятву.
Ну, так вот. Немного о дипломатии. Пока Вавилон занимался Ассирией, местные мелкие царьки пребывали в спокойствии и лени, не обращая внимание на мелкие шалости главного героя, пригребшего (путем банального рэкета) себе во владение несколько крохотных городков на окраине. Но вот Вавилон посылает своего посла собирать дань и приводить в чувство местных правителей. Ифтах понимая, что его благополучие под угрозой и собственных сил катастрофически не хватает, прибегнул почти к киднеппингу — похитил того самого посла, вызволять которого пришлось местному правителю путем признания прав Ифтаха на присвоенные городки и заключения с ним мирного договора.
Данный эпизод примечателен тем, что от людей из свиты захваченного посла герой романа узнал многое об устройстве дел в большом и развитом государстве. Ведь, важного вельможу сопровождали не самые простые люди, а много знающие и многое умеющие. Именно они осуществляли те поручения, которые должна была выполнить миссия. Встретившись с цветом того общества Ифтах приобрел очень ценную информацию, которую сумел осмыслить. Конечно же, как сына судьи, его волновала проблема управления и справедливости.
После вебинаров Ирины Анатольевны изменилось и моё отношение к кодексу Хамураппи. Раньше это воспринималось, как дежурная и техническая информация. А то, что этот кодекс — основополагающий принцип жизненного обустройства большой общности людей, позволяющий создать огромное государство — смогла прочувствовать сравнительно недавно. Поэтому так интересно наблюдать в романе Л.Фейхтвангера его героя, осознающего важность полученных новых знаний о мироустройстве. Особенно впечатляет, что законы не менялись 800 лет(!).
Ифтаха наполняло радостное и спокойное ожидание. Он использовал любую возможность узнать от своих гостей о делах Вавилона. Слушал, как отстраивается буквально кишевший людьми город, получая представление о его прямых улицах, высоких домах, обычаях жителей. Рассказывали гости и о других городах могущественного северного государства — о Сипаре и Акаде, Барсипе и Нипуре, о множестве других, более мелких. Самый маленький из них был крупнее самого большого в Заиорданье.
Ифтаха интересовала информация об управлении государством и его судопроизводстве. Порядок в стране поддерживался с помощью двухсот восьмидесяти двух основных законов, которые великий царь Хамураби восемьсот лет назад приказал высечь на каменных глыбах. Они действовали и сегодня, но дополнялись и изменялись, приспосабливались к обстоятельствам.
Такое множество законов, по мнению Ифтаха, во всем ограничивало человека. У него захватывало дух, когда он думал, сколь трудна задача тех, кто управлял государством и удерживал в своих руках власть. Тут недостаточно было вдохновения и умения драться. Царь такой большой страны невольно лишался свободы и должен был отказаться от путешествий по велению собственного сердца.
Ифтах размышлял над пояснениями писцов из Вавилона, и слова Авиама, произнесенные тогда, в шатре Господа, представились ему в ином свете. Он постигал их скрытый глубинный смысл. Они материализовались в его воображении и угрожающе манили. Его утешало, что он пока не обременен должностью судьи, не скован древними, столь мудрыми и жесткими законами. Он eщё может свободно дышать в своей стране Тоб. Однако, взвешивая груз, который нес на себе великий царь Мардук, сидя на высоком троне города Вавилона, который насчитывал больше жителей, чем весь народ Израиля, Ифтах буквально физически ощущал безграничность его власти. Он требует не меньшего почтения к себе от сограждан, чем Господь — от преданных Ему слуг. Согласно ритуалу, знатные горожане трижды падали ниц и только потом получали дозволение поцеловать его в бороду. Смертная казнь грозила всякому, кто осмеливался заговорить, прежде чем царь подаст знак мановением руки. Достаточно было Мардуку тряхнуть бородой или процедить сквозь зубы несколько слов, в конце концов, выдохнуть царственное «х» — и воины, кони, повозки приходили в движение. Рушились крепкие стены, сгорали города, погибали мужчины, а закованных в цепи женщин и детей уводили в рабство. И всеми действиями царь руководил издалека — настолько длинны и сильны были его руки.
Нетрудно заметить, что «протяженность рук» управляющего прямо зависит от унификации законодательства, его стабильности и обязательности исполнения.
Подробнее и внятнее по данной теме (о законодательстве) излагает И.А.Дедюхова на своих ресурсах и вебинарах.
В это время соседи нападают на род Ифтаха, соплеменники и родственники взывают к нему о помощи. Наш герой соглашается в обмен на возврат всех утерянных им преференций. Но силы не равны и он опять прибегает к переговорам. Сосед-аммонит предлагает породниться. Династический брак — вещь привлекательная, но дочь воспитана очень религиозной. Её вера — серьёзное препятствие к браку. Собственно, и сами исходные проблемы с роднёй взялись из-за иной веры матери и жены Ифтаха.
Но брачное предложение позволило оттянуть войну на какое-то время. Сородичи полагали, что во время перемирия главный герой обратится за помощью к соседнему роду, хотя, с ними тоже весьма натянутые отношения из-за не оказанной в свое время помощи. Род Ифтаха не послал войско во время предыдущей войны, правда, обошлись и без них, но «осадочек остался».
Положение сложное и Ифтах разрабатывает рискованный план
Без всякого сомнения, вспомогательные силы Башана будут стремиться соединиться с Нахашем в начале года. Итак, они свернут с главной дороги фараона на более короткую, западную, и пересекут Ябок вброд у Пенцеля. Единственная дорога к броду ведет через ущелье Нахал-Гад. Именно там Ифтах окружит войско. Если ему удастся уничтожить эти сильные вспомогательные отряды, Нахаш не рискнет на генеральную битву, и исход войны будет предрешен прежде, чем начнутся военные действия. Ифтах сможет навязать аммонитам свои условия мира.- И без помощи Эфраима… — добавил полный злобной радости Ифтах.
План почти удался … с помощью подоспевших вовремя воинов Эфраима, которых тайком умолил первосвященник. Во время битвы была дана богу та самая одиозная клятва о жертвоприношении. Военачальник был в гневе, что на его победу претендуют и незваные помощники, и в запале приказал расправиться с ними. Такая вот благодарность…
… А потом на встречу первой вышла его любимая дочь, самое ценное, что у него было в жизни. …И неизбежна была война уже с соседним родом Эфраима…
Единственная любимая дочь, очень любящая отца, для которой он практически бог (поскольку в её видениях Бог приобретает облик отца). Девушка благочестива и религиозна. Принести себя в жертву по воле отца — для неё святой долг. Отец в отчаянии, попытки устроить побег любимого дитя тщетны, трагедия неизбежна, отказаться от обета невозможно. …Жертва принесена…
Ужас от содеянного Ифтахом и тяжесть его потери остановил грядущую братоубийственную войну. В его жизни остался только долг и служение своему роду…
Пребывание во власти накладывает весомую ответственность, посильную не для каждого. Личное (личные пристрастия, капризы, тщеславие etc.) практически недопустимо, поскольку может повлечь за собой огромные издержки для тех людей, во главе которых находишься. За осознание этого пришлось заплатить колоссальную цену. Когда распоряжаешься жизнями других, твоя жизнь тебе уже не принадлежит…
Ну да, хрестоматийное для русского читателя «Тяжела ты, шапка Мономаха» …
Находящийся на вершине власти должен подчинятся существующим законам, нравственным законам, причем большему их числу. Ведь гнев и тщеславие — это нарушение их, а отвечать придётся перед Богом.
Еще раз повторим и отметим, что романы Лиона Фейхтвангера не смотря на свою историчность откликаются на актуальные проблемы современности
«В своих исторических романах я хотел дать то же содержание, что и в современных», — говорит он сам.
Его самая известная трилогия написана о подлинном историческом персонаже, историке Иосифе Флавии и носит то же название, что и главный труд еврейского писателя — «Иудейская война». У Фейхтвангера, правда, так называется только первый роман, который вышел в 1932 году, второй — «Сыновья» 1935 года, а третий — «Настанет день» 1945 года.
В «Иудейской войне» и «Сыновьях» проблема поставлена совершенно иначе. Тема отхода от еврейства оборачивается здесь темой борьбы за единую космополитическую культуру, в которой должно найти гармоническое сочетание все то лучшее, что несли в себе культуры греко-римская и еврейская.
Историк-философ античности Иосиф Флавий героичен уже в полной мере: его активность имеет общечеловеческую цель — слить воедино два мощных культурных потока, уничтожить бессмысленную и преступную ненависть между людьми «разной крови».
Автор написал три больших романа, которые создавал в течение значительного промежутка времени (лет пятнадцать) в самые сложные и напряженные годы исторической эпохи. И опять же повторим, что он напряженно искал выход для своего народа, нарастающую угрозу для которого он явственно ощущал.
Я сейчас приведу большие отрывки из текста романа (это я отдам должное личным пристрастиям, потому что могу читать и перечитывать Фейхтвангера с любого места в любом порядка, что называется «хоть вдоль, хоть поперёк», и получать от этого огромное удовольствие).
Всю трилогию разбирать у меня нет возможности. Обращу лишь читательское внимание на то, как автор описывает сохранение и существование религиозного учения народа после изгнания и распыления.
То есть, вот о чем речь. В ходе первой иудейской войны в 66–73 гг. н. э. Иерусалимский храм был разрушен и евреям было запрещено жить в Иерусалиме. Храм разрушил сын римского императора Веспасиана — Тит — будущий следующий римский император. Но, когда ещё город сопротивлялся, к императору пришел старик-еврей, ученый-богослов, казалось бы, со скромной просьбой о которой он униженно просил суровых римлян. Молил он о возможности создания маленького университета, который будет заниматься исключительно религиозными вопросами.
Лион Фейхтвангер «Иудейская война»
И вот древний, пожелтевший старик богослов стоял перед римлянином: на иссеченном морщинами, обрамленном выцветшей бородкой лице голубые глаза казались удивительно молодыми. Он сказал:
— Я пришел, консул Веспасиан, чтобы поговорить с вами о мире и покорности. У меня нет никакой власти. Власть в Иерусалиме принадлежит «Мстителям Израиля», однако закон еще не умер, и я принес с собой печать верхового судьи. Это немного. Но никто лучше Рима не знает, что обширное государство, в конце концов, не распадается только в том случае, если оно будет опираться на право, закон и печать; поэтому, может быть, я принес не так уж мало.
Иоханан протянул свои поблекшие руки, предложил:
— Я даю вам печать и письмо о том, что Иерусалимский Великий совет и ученые подчиняются римскому сенату и народу. Вас же прошу об одном: оставьте мне маленький городок, где бы я мог основать университет, и дайте
мне свободу преподавания.
— Чтобы вы мне опять состряпали самые угрожающие рецепты борьбы против Рима? — ухмыльнулся Веспасиан.
Иоханан бен Заккаи как будто стал еще меньше и ничтожнее.
— Что вы хотите? Я посажу крошечный росток от мощного иерусалимского дерева. Дайте мне, ну, скажем, городок Ямнию, в нем будет совсем маленький университет… — Он уговаривал римлянина, показывал жестами всю
ничтожность его университета: — Ах, он будет так мал, этот университет в Ямнии. — И он сжимал и разжимал крошечную ручку.
Зачем университет нужен был сухонькому старичку, когда страна была уже практически завоевана и силы сопротивления фактически разгромлены?
— Иудейское царство погибло, — повторил Иоханан, — но не царство объединяет нас. Создавались и другие царства, они рушились, возникнут новые, которые тоже рухнут. Царство — это не самое важное.
— А что же самое важное, отец мой?
— Не народ и не государство создают общность. Смысл нашей общности, — не царство, смысл нашей общности — закон. Пока существуют законы и учение, наша связь нерушима, она крепче, чем если бы шла от государства. Закон жив, пока есть голос, возвещающий его. Пока звучит голос Иакова, руки Исава бессильны.
— Вы не поделитесь со мной вашими планами, отец мой?
— Да, — отозвался Иоханан. — Теперь я могу тебе сказать. Мы отдаем храм. Мы воздвигнем вместо видимого дома божия — невидимый, мы окружим веющее дыхание божье стенами слов вместо гранитных стен. Что такое дыхание божье? Закон и учение. Нас нельзя рассеять, пока у нас есть язык для слов или бумага для закона. Поэтому-то я и просил у римлянина город Ямнию, чтобы там основать университет. И я думаю, что он мне его отдаст.
— Ваш план, отец мой, нуждается в труде многих поколений.
— Нам спешить некуда, — возразил старик.
— Но разве римляне не будут препятствовать? — спросил Иосиф.
— Конечно, они попытаются: власть всегда недоверчива к духу. Но дух эластичен. Нет таких запоров, сквозь которые он бы не проник. Пусть они разрушат наш храм и наше государство: на место храма и государства мы возведем учение и закон. Они запретят нам слово — мы будем объясняться знаками. Они запретят нам письмо — мы придумаем шифр. Они преградят нам прямой путь — но бог не умалится, если верующие в него будут вынуждены пробираться к нему хитрыми окольными путями. — Старик прикрыл глаза, открыл их, сказал: — Нам не дано завершить это дело, но мы не имеем права от него отрекаться. Вот для чего мы избраны.
— А мессия? — спросил Иосиф с последней надеждой. Старику становилось все труднее говорить, но он собрал последние силы, — необходимо было передать свое знание любимому ученику Иосифу. Иоханан знаком предложил Иосифу наклониться к нему, своим увядшим ртом он прошептал в молодое ухо:
— Вопрос, придет ли когда-нибудь мессия. Но верить в это нужно. Никогда не следует рассчитывать на то, что он придет, но всегда надо верить, что он придет.
…
В Ямнии Иоханан бен Заккаи узнал: храм пал. Маленький древний старичок разорвал на себе одежды и посыпал пеплом главу. Но в ту же ночь он созвал совещание.
— До сего дня, — заявил он, — Великий Иерусалимский совет имел власть толковать слово божие, определять, когда начинается год и когда рождается молодой месяц, что правильно и что неправильно, что свято, что нет, имел власть вязать и разрешать. С нынешнего дня это право переходит к совету в Ямнии.
— Наша первая задача — установить, где границы Священного писания. Храма больше нет. Единственное царство, которым мы владеем, — это Писание. Его книги — наши провинции, его изречения — наши города и села. До сих пор слово Ягве было перемешано со словами человеческими. Теперь же следует определить до последней йоты, что принадлежит к Писанию, что — нет.
Наша вторая задача — сохранить комментарий ученых в веках. До сих пор на передаче комментария иным путем, чем из уст в уста, лежало проклятие. Мы снимаем это проклятие. Мы занесем шестьсот тринадцать заветов на хороший пергамент, там, где они начинаются и где кончаются, мы их обведем оградой и подведем под них фундамент, чтобы Израиль мог опираться на них вовек. Мы, семьдесят один человек, это все, что осталось от царства Ягве. Очистите сердца ваши, чтобы стать нам царством более нерушимым, чем Рим.
Они сказали «аминь». Они постановили в ту же ночь, что двадцать четыре книги святы (*154). Четырнадцать, почитаемые многими за святые (*155), исключаются. Собравшиеся жестоко спорили друг с другом, но они строго себя проверяли, чтобы их устами говорила не собственная тщеславная ученость, но только возвещалось слово Ягве так, как оно было им передано. Сон не шел к ним, они чувствовали себя одержимыми Ягве, предприняв этот пересмотр, результаты которого должны были стать обязательными для всех веков.
Они расстались, когда солнце уже взошло. Только теперь почувствовали они, до какой степени устали, но, несмотря на скорбь о разрушенной святыне, эта усталость не была мрачной. Гибель храма свершилась 29 августа 823 года после основания города Рима, 9 аба 3830 года по еврейскому летосчислению. И 9-го же аба был разрушен Навуходоносором первый храм. Второй храм простоял шестьсот тридцать девять лет одни месяц и семнадцать дней. За все это время каждый вечер и каждое утро неизменно приносилось всесожжение Ягве, многие тысячи священников совершали служение, как оно предписано Третьей Книгой Моисея и изъяснено до мельчайших подробностей многими поколениями богословов.…
Или в Ямнию, к Иоханану бен Заккаи, хитроумно и величественно воссоздающему иудаизм, более сокровенный, духовный, гибкий и все же более устойчивый, чем раньше? …
Вот здесь тоже создается закон, закон для людей, которые на многие века будут рассеяны по всему свету. Свою общность они будут поддерживать только добровольным соблюдением этих правил. Жить они будут в разных странах с разными народами, будут вынуждены соблюдать законы , которые там существуют, но при этом и подвергаться дополнительному ограничению собственных. Во имя каких целей? Почему? Автор в своем романе говорит лишь о высоком религиозном чувстве и более высоком духовном развитии.
Но какие черты замечает уже современный читатель, знающий трагическую историю двадцатого века? Рецепт очень похож на способ создания идеологий, используемых затем в партийном строительстве. На глазах автора произошли драматические события первой мировой войны и последующего переустройства мира. Как это работало, можно было наблюдать непосредственно.
Нельзя не отметить такой черты, описываемого в романе, процесса, как изоляционизм. Ведь, создаваемые идеологии, так трагично сработавшие в двадцатом веке, отстаивали интересы групп людей, выделявшихся из общества по определенным признакам, и противопоставлявшихся всем остальным.
Далее в романе описывается коллизия с законом (опять же), который разделил еврейское религиозное сообщество и положил начало христианству. То есть изолироваться желали далеко не все. Последователи Христа (минеи) придерживались доступных всем нравственных законов и принципа равенства всех перед Богом. Исключительность свою видели лишь в большем приближении к истине и предлагали всем окружающим приобщиться к её божественному свету.
(В приведенных ниже отрывках романа упоминается закон «об обрезании», запрещающий иудаистский прозелетизм и обрезание у неевреев.)
Губернатор продолжал. Он гордится тем, что является инициатором законопроекта. Для него важно, чтобы евреи поняли, насколько этот закон желателен именно в их интересах. Только так можно провести в Иудее твердую границу между политикой и религией, а без такой четкой границы управлять провинцией нельзя. Он разгорячился.
– Я всячески охраняю, – заверял он Иосифа, – еврейскую религию, поскольку она дозволена. Я щажу чувства ваших единоверцев. Я энергично напомнил военным учреждениям о запрещении выставлять бюсты императора в городах с преобладающим еврейским населением. Я поощряю, насколько в моих силах, автономный еврейский суд. Я освободил Ямнийский университет, его богословов и учеников от уплаты налога. Уж если кто терпим, так это я. Но в ту минуту, когда еврейская религия превращается в политику, я становлюсь ее жесточайшим противником. Счастье для евреев, что как раз их невидимый бог и его законы – это только религия, далекая от всякой политики.
– Боюсь, господин губернатор, – сказал Иосиф, – что даже если новый закон пройдет, то вам не удастся, как вам хочется, совершенно отделить еврейскую религию, как нечто исключительно идеологическое, от реальной политики. Пожалуйста, не поймите меня превратно. Надеюсь, я достаточно показал на собственном примере, что человек может быть одновременно хорошим евреем и хорошим римлянином. И все-таки – иудаизм нечто большее, чем точка зрения, чем идеология. Дело в том, что Ягве не только бог, он и царь Израиля.
…
Робко жались побежденные иудеи в стране, дарованной им богом Ягве, где их теперь едва терпели и где всего полпоколения назад они были хозяевами. Большую часть из них убили или обратили в рабство, а имущество объявили собственностью императора. То одного, то другого все еще подозревали в причастности к восстанию, и каждого угнетала забота, как бы злонамеренный конкурент или сосед не возвели на него подобного обвинения. Многие эмигрировали. Поселки иудеев нищали, их становилось все меньше, страну все гуще населяли сирийцы, греки, римляне. Языческие города Неаполь Флавийский и Эммаус стали первыми городами страны, и в то время, как в Иерусалиме царило запустение, в новой столице, Кесарии Приморской, было множество роскошных зданий, святилищ чужеземных богов, правительственных дворцов, бань, стадионов, театров; иудеи же без особого разрешения не имели доступа ни в Иерусалим, ни в новую столицу.
Вместо священников Иерусалимского храма и аристократов, большинство которых погибло в этой войне, руководство взяли в свои руки ученые-богословы и юристы. Верховный богослов, Иоханан бен Заккаи, для того чтобы сохранить единство нации, изобрел хитроумный и смелый план: он решил заменить государство вероучением; его преемник, Гамалиил, трудился энергично и осторожно над осуществлением этого плана. Свод ритуалов, до мельчайших деталей разработанный им и его коллегией в Ямнии, связывал иудеев друг с другом крепче, чем прежнее государство.
Однако эта система вынуждала ученых все более суживать учение и пожертвовать лучшей его частью – универсализмом. «Как единоплеменник ваш пусть будет среди вас пришлец, и люби его, как самого себя»[93], – повелел Ягве устами Моисея, и устами Исайи: «Мало того, что ты просветишь сынов Иакова, я поставил тебя светочем для язычников». От этой космополитической миссии, которой они были верны ряд столетий, иудеи начали отрекаться. Уже не всей земле несли они теперь свое благовестие, но многие утверждали, что после разрушения храма обитель божия – это народ Израиля и что бог принадлежит только этому народу. Гнет римлян, и прежде всего закон об обрезании, побуждали все большее число членов ученой коллегии примыкать к этой националистической концепции. Они пропускали те места, где Писание напоминало иудеям о их всемирной миссии, и неустанно повторяли те, где возвещалось о союзе Ягве с Израилем, как со своим любимым народом. Пользуясь сводом ритуалов, они придали жизни иудеев национальную замкнутость. Они запретили им изучать наречия язычников, читать их книги, признавать их свидетельство на суде, принимать от них подарки, смешиваться с ними через половые связи. Нечистым считалось вино, которого коснулась рука неиудея, молоко, которое надоила рука иноверца. В суровом, слепом высокомерии отделяли они все более высокими стенами народ Ягве от других народов земли. Этого придерживались почти все иудейские вожди, а также сектанты – ессеи, эбиониты[94], минеи, или христиане. Например, человеку, которого минеи считали мессией, Иисусу из Назарета, некоторые из его учеников, в частности – известный Матфей[95], приписывали слова: «На путь к язычникам не ходите и в город самарянский не входите; а идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева».[96]
И за короткое время иудеи, которые были первыми, возвестившими населенному миру, что их бог принадлежит не им одним, а всей земле, стали самыми фанатичными партикуляристами. Богословы все непреклоннее монополизировали учение, все нетерпимее запрещали всякие возражения. Правда, многие противились этому. Иудеи были искони своевольны – не единообразная масса, а народ, состоящий из множества отдельных индивидуумов и множества точек зрения. Среди них имелись традиционалисты и новаторы, фарисеи, саддукеи, ессеи, люди терпимые и нетерпимые, последователи Гиллеля, Шаммая, люди, признававшие только священников, и люди, признававшие только пророков. С исчезновением государства и храма исчезло немало сект, но расщепление внутри иудейского народа продолжалось.
Всегда существовали иудеи, жадно интересовавшиеся познаниями других людей и исследовавшие науку других народов. И теперь они не желали лишаться этого права. Некоторые вожди иудеев, во главе с великим мыслителем Филоном, в течение столетий трудились над тем, чтобы органически сочетать греческую образованность с их собственным учением: «Поселить красоту Иафета[97] в шатрах Иакова». Как, и это стало вдруг преступлением? И многие отказывались подчиниться, не хотели признавать авторитета богословов, предпочитали подвергнуться изгнанию, покинуть страну, чем отречься от греческих примесей в своих познаниях.
Но богословы не отступали от своего плана. Чтобы евреи не растворились среди других народов, учение должно было оставаться ясным, единым до последних деталей. Должен был существовать единый обряд и единый обычай, по которым можно было бы отличить иудеев от остальных. Следовало всю жизнь подчинить закону, не допускать никаких отклонений.
В вопросе о мессии существовало до сих пор множество точек зрения. Одни верили в то, что он принесет меч, другие – пальму мира. Разные люди видели мессию в разных лицах, и им не препятствовали в этом. Теперь богословы предписывали верить в одного-единственного мессию, который должен скоро прийти, вышвырнуть римлян из страны, восстановить Иерусалим и заставить все народы признать бога Израиля.
Но существовали люди, минеи, или «верующие», называвшиеся также христианами, которые утверждали, что мессия уже пришел; правда, его царство – не от мира сего, он, наоборот, пришел показать всему народу путь благодати, так чтобы не только ученые, но всякий, даже нищий духом, мог познать Ягве. Но мессии не поверили, его отвергли и в конце концов убили.
Некоторые пророчествовали об этом еще до разрушения храма, но привлекли мало последователей. Теперь они говорили: «Вот видите, священники и богословы убили мессию, поэтому Иерусалим и разрушен». И многие задумывались: «Разве они не правы? Разве действительно священники и богословы не преисполнены всезнайства и высокомерия? Иначе трудно понять, почему Ягве разрушил свой храм и отдал свой народ во власть язычников».
Дальнейшее учение минеев тоже легко находило доступ к мыслям и чувствам людей. Богословы подчиняли жизнь закону, шестистам тринадцати основным повелениям и запретам, каждое из которых распадалось на множество более мелких предписаний; согласно этим сотням маленьких, но обязательных обрядов и молитв, был распределен весь день, с утра до поздней ночи, и за каждое нарушение грозила кара на том и на этом свете. Минеи, наоборот, учили, что, конечно, хорошо жить по закону, но достаточно верить в мессию, давшего людям искупление, чтобы за лишения в этой жизни получить награду в сладостной жизни за гробом, и очень многие следовали новому, более мягкому учению.
Богословам приходилось со всем этим бороться, бороться против греческих, космополитических тенденций людей образованных, против кроткой веры нищих духом в уготованное им спасение. Они боролись с упорством и гибкостью, то мягко, то сурово, не упуская из виду своей цели – единства закона.
Они боролись успешно. Огромное большинство иудеев доверяло им, признавало их руководство, подчиняло всю свою жизнь их ритуалам и предписаниям – от первой минуты утреннего пробуждения до вечернего сна. Ели и постились, молились и проклинали, работали и отдыхали, когда им было приказано. Отрекались от любимых грез и убеждений, замыкались от неиудеев, с которыми до сих пор дружили. Друг сторонился друга, если он был неиудей, сосед – соседа, возлюбленный – возлюбленной. Они взяли на себя ярмо этих шестисот тринадцати повелений и запретов, сделали свою жизнь убогой и унылой, поддерживали себя мыслью, что они – единственный, избранный народ Ягве, и горячей надеждой на то, что скоро придет мессия во всей своей славе и подчинит слепые народы народу-боговидцу – Израилю. Они обращали свои взоры к разрушенному Иерусалиму, и этот Иерусалим, которого уже не существовало, связывал иудеев страны Израиля с иудеями, рассеянными по всей земле, теснее, чем тот же Иерусалим, в котором, белый и золотой, зримый для всех, стоял некогда храм Ягве.
…
Правда, когда они доверяли кому-нибудь и переставали сдерживаться, то начинали жаловаться на строгость духовных наставников – богословов Ямнийского университета. Их закон был суров, их суд жестоко карал за малейший промах. Людям хочется придерживаться веры отцов, но господа в Ямнии это делают дьявольски трудным. Они осложняют и жизнь и хозяйство. При этом они высокомерны, смотрят на обыкновенных людей свысока, не подпускают их к вероучению.
Иосиф убеждался, что патриотическая суровость и ученое высокомерие богословов побудило довольно многих галилеян перейти к минеям, иначе – христианам.
Он ездил по стране, и так как был историком, то собирал сведения о человеке, почитаемом минеями за мессию. Он полагал, что осведомлен обо всех, кто за последние десятилетия был привлечен к суду как лжепророк; но об Иисусе минеев он ничего не знал. По слухам, этот Иисус был распят при губернаторе Понтии Пилате. Но если он был распят, то никакой еврейский суд не мог его приговорить к этому; распятие являлось наказанием, к которому могли присуждать только римляне. Будь он осужден как лжемессия самими евреями, они же привели бы и приговор в исполнение, а именно – побили бы его камнями, как того требовал закон. Понтий Пилат действительно распял одного самаритянина, выдававшего себя за потомка Моисея, законодателя, и за мессию и заявившего, что ему принадлежат древние священные сосуды, которые его пращур зарыл на священной горе Гаризим[102]. Может быть, минеи и перенесли черты других мессий на этого человека.
На всякие случай Иосиф, историк, использовал свое пребывание в Галилее, чтобы отыскать следы этого Иисуса минеев. Он расспрашивал то тут, то там. Он расспрашивал в Назарете, где, по слухам, этот человек родился, расспрашивал на берегах Геннисаретского озера. Но и в Назарете, и на берегах Геннисаретского озера люди говорили: «Здесь ничего не известно», и в Магдале они говорили: «Здесь ничего не известно», «Здесь ничего не известно», – говорили они и в Тивериаде и в Капернауме.
…
– Господа в Ямнии охотно удержали бы меня, – закончил он свой рассказ. – Они пошли бы даже на то, чтобы в виде исключения и негласно разрешить мне заниматься моим Филоном и Аристотелем. Они готовы на такие компромиссы – надо только молчать о них, и если человек нашел собственную истину, то пусть она его собственностью и остается, он не должен ни в коем случае передавать ее дальше. – Он выплюнул конфету. – Единство вероучения – это единый бог, единая нация, единое толкование. Богословы Ямнии не разрешают дискутировать о книгах греков, об эманациях бога, о сатане, о святом духе. Этой сплошной централизацией и сужением до национализма они лишают учение его смысла. Этим единым толкованием они выключают из Писания весь мир и подменяют его глупым, одержимым манией величия народишком. Если Ягве – не бог всего мира, то кто же он? Один из многих богов, национальный бог. Они возвещают узость, эти господа в Ямнии, они хотят, чтобы была нация, и изгоняют бога. Они ссылаются на Иоханана бен Заккаи. Но ставлю вот эту мою Тавиту против иссохшего стручка, что Иоханан охотнее отказался бы от иудаизма, чем увидел, как он у них засыхает и костенеет. Иоханан хотел наполнить мир духом иудейства, Гамалиил изгоняет дух из иудеев. Массы не понимают, в чем здесь дело, но они чувствуют, что между Ягве и богословами – нелады. Они чувствуют, что тот Иерусалим, который богословы строят в духе, еще теснее, еще высокомернее, чем был Иерусалим из камня, ныне разрушенный. Поэтому столько людей и уходят к минеям.
…
– Я политик, – продолжал этот голос, – и мне это ставят в вину. Да, я такой. Я иду прямо к цели, организация коллегии интересует меня больше, чем вопрос о том, можно ли или нельзя есть яйцо, снесенное в субботу. Мне важно, чтобы силу закона получили в этом отношении не шесть или хотя бы только две точки зрения, по одна. Я хочу, чтобы было разрешено есть такое яйцо или везде – и в Риме, и в Александрии, и в Ямнии, или нигде; но не так, чтобы доктор Перахия это запрещал, а доктор бен Измаил – разрешал. К сожалению, в наших богословах это единство может воспитать только деспотизм. Когда пастух хром, гласит пословица, козы разбегаются. Я не даю своим козам разбегаться.
Я сказал бен Измаилу: я вовсе не собираюсь предписывать тебе, как ты должен веровать. Представляй себе Ягве, каким ты хочешь, веруй в сатану или веруй во всеблагого. Но свод обрядов должен быть один, здесь я не потерплю никакого разномыслия. Учение – это вино, обряды – сосуд, если в сосуде образуется трещина или даже дыра, то учение вытечет наружу и исчезнет. Я не допущу никакой бреши в сосуде. Я не дурак, чтобы предписывать человеку, как он должен веровать, но его поведение я ему предписываю. Предопределите поведение людей, и их мнения определятся сами собой.
Я убежден, что нация может быть сохранена только через единообразное поведение, только путем строгого соблюдения свода ритуалов. Евреи диаспоры[119] тотчас откололись бы, если бы они не чувствовали авторитета. Я должен сохранить за собой право авторитарного регулирования такого свода. Каждый может иметь свой индивидуальный взгляд на Ягве, но кто хочет при этом творить собственный ритуал, того я в общине не потерплю.
Лицо его вдруг преобразилось, исчез налет любезности, оно стало сильным, жестким; такие лица Иосиф видел в Риме, когда друзья его из любезных и либеральных господ внезапно превращались в римлян.
– Я выполняю завет Иоханана бен Заккаи, – продолжал верховный богослов, – и только. Я заменяю погибшее государство учением. Говорят, мой свод ритуалов националистичен. А как же иначе? Если государство нужно заменить богом Ягве, то бог Ягве должен примириться с тем, что мы защищаем его теми средствами, какими защищается государство, то есть политическими средствами, он должен мне разрешить сделать его национальным.
Мои коллеги говорят мне, что нельзя приказать отдельному человеку именно за два часа до заката солнца переживать благодать божию, да еще по предписанному тексту. Может быть, самая проникновенная молитва и должна быть чисто индивидуальной, не связанной ни с определенным временем, ни с определенной формой. И все же я предписываю всем пяти миллионам евреев молиться в один и тот же час и одними и теми же словами. Постепенно все большее число их научится не только произносить слова, но и ощущать их, и у всех будет чувство, что они народ единого бога, созданный по одному и тому же образу и подобию, исполненный одной жизнью и идущий одним путем.
…
Если можно сохранить иудейство, только сделав его национальным и отказавшись от его космополитической миссии, то следует ли вообще его сохранять? Этот вопрос, казавшийся в Лидде еще смутной, далекой теоретической проблемой, вдруг приобрел угрожающую актуальность. Высказаться за минеев – значило вызвать рассерженный Рим на репрессии. Если же отречься от минеев, то еврейский народ еще строже и еще надменнее обособится от остального мира.
Миней Иаков сказал:
– Вы знаете, что мы – евреи и что мы не хотим нарушать закон. Наш мессия пришел, чтобы исполнить закон. Мы миролюбивые люди. Не отлучайте нас. Есть старое учение, и есть новое учение. Мы веруем в новое, но мы не отрицаем и старого. Если вы нас исключите, то к нам будет приходить все больше язычников и в нашу веру будет проникать все больше новое учение и все меньше оставаться от старого. Не принуждайте нас отказываться от старого учения ради нового.
– Для меня это слишком минейская точка зрения, – резко возразил верховный богослов, и его вежливое лицо стало жестким, римским. – Я не могу допустить, чтобы мотивами можно было изменить самый факт. Я не могу согласиться с тем, чтобы принятый в общину Израиля оставался необрезанным. Секта, допускающая к себе необрезанных, не может быть терпима в нашей среде. Подумайте трезво, доктор Иосиф, – убеждал он его. – Признание подобной точки зрения равносильно упразднению иудаизма. В настоящее время мы добились того, что устав ритуалов связывает даже заграничных евреев между собою так же тесно, как некогда их связывал храм. Они взирают теперь на Ямнию еще более неотступно, чем некогда смотрели на Иерусалим. Если я дам ритуалам поколебаться, то вся спайка рухнет, рухнет все. – И, приблизившись к нему, доверчиво, хитро, таинственно прибавил: – Я иду дальше. То, что римляне запретили обрезание, кажется мне знаком Ягве. Он больше не хочет принимать язычников в свой союз с нами. Он хочет сначала, чтобы мы укрепились в самих себе. Он на время закрыл список.
– Я должен, – возразил верховный богослов, – поставить на карту либо универсализм иудеев, либо их бытие. Неужели я вправе ради части идеи рисковать всей идеей? Я предпочитаю на время сузить иудаизм до национализма, но не дать ему вовсе исчезнуть из мира. Я должен пронести единство иудеев через ближайшие тридцать лет, самые опасные с тех пор, как Ягве заключил союз с Авраамом. Когда опасность минет, дух иудаизма может снова выявиться как дух вненациональный.
Два первых романа Лиона Фейхтвангера были опубликованы в 1932 и 1935 годах, когда его волновала тема еврейской ассимиляции, особенно, после посещения им Советского Союза.
Но в 1945 году становится актуальной тема создания самостоятельного еврейского государства на Ближнем Востоке.
Лион Фейхтвангер «Настанет день»
И Финей начал поучать ее с торжествующей невозмутимостью: – Я никогда не стал бы говорить так уверенно о моем плане сломить Иосифа и его евреев, если бы предварительно не проверил, в чем суть дела с этой Ямнией. Я расспрашивал сведущих лиц, чиновников и офицеров из администрации и из оккупационных войск в Иудее, прежде всего, конечно, губернатора Сальвидия, и тщательно сопоставлял мнения этих людей. Дело обстоит так: этот нелепый университет не обладает никакой властью, да и не ищет ее. Это действительно всего-навсего нелепая школка для подготовки богословов. Но во всей провинции не найдется ни одного еврея, который бы не делал взносов, точно установленных в соответствии с его средствами, на этот университет, и ни одного, кто бы не подчинялся его решениям. И обратите внимание – все это добровольно. Они повинуются государственной власти, но лишь по необходимости, а вот власти своей Ямнии они повинуются добровольно. Они приходят со своими тяжбами – не только религиозными, но и гражданскими – не в императорские суды, а к богословам Ямнии и подчиняются их решениям и приговорам. Бывали случаи, когда богословы приговаривали обвиняемого к смерти, мне со всей очевидностью доказали, что такие случаи бывали нередко. Разумеется, эти приговоры не имеют законной силы, они носили чисто академический характер и являлись заключениями теоретическими, ни для кого не обязательными. Но вы знаете, что сделали евреи, приговоренные таким способом к смерти? Они умерли. Действительно умерли. Мне об этом рассказывал губернатор Сальвидий, а Невий, верховный судья, подтвердил, и капитан Опитер тоже. Как эти евреи умерли – сами ли они себя прикончили или их прикончили, – этого я установить не смог. Но ясно одно: достаточно им было отдаться под защиту римлян, и они могли бы преотлично жить дальше в назидание всем. Но они предпочли умереть.
– Уверяю вас, Дорион, – продолжал Финей, – университет в Ямнии – это крепость евреев, надежная крепость, она неприступнее, чем был Иерусалим и храм; наверное, это самая неприступная твердыня на свете, и взять ее невидимые стены труднее, чем самые хитроумные ворота, построенные нашим Фронтином. Господа римляне этого не знают, губернатор Лонгин не знает, император не знает. А я, Финей, знаю, – оттого что я ненавижу Иосифа и его евреев. Маленький дурацкий университетик в Ямнии, семьдесят один богослов – вот центр провинции Иудеи! Отсюда правят евреями, а вовсе не из губернаторского дворца в Кесарии. И если нашего Павла еще трижды пошлют против евреев и если перебьют сто тысяч «Ревнителей грядущего дня», все будет бесполезно. Иудея остается жить, она живет в этом университете!
…
– Перед вами, Иосиф, я спокойно могу называть вещи своими именами. Конечно, и университет и коллегия в такой же мере учреждения политические, как и религиозные. Мы даже считаем необходимым, чтобы вероучение пропиталось политикой. Толкуя учение, мы просто не принимаем во внимание тот факт, что храм разрушен и нашего государства больше не существует. Мы ведем дебаты о каждой частности богослужения в храме так же усердно, как и о каждой частности повседневной жизни, и отводим им такое же место. Мы дискутируем с одинаковым жаром и о вопросах судопроизводства, которое у нас отнято, и о ритуальных правилах, которые нам разрешено устанавливать. Первые занимают в нашей учебной программе даже больше места, чем вторые. И пусть римляне попробуют указать нам, где кончается теория и начинается практика судопроизводства, где богословие переходит в политику! Да, мы занимаемся только богословием. Но когда кто-нибудь предпочитает вместо императорского суда обратиться в высшую школу в Ямнии – разве это не его личное дело? Разве не наша обязанность дать разъяснения, если он хочет узнать, как подойти к его случаю, оставаясь на почве нашего учения? И если он подчиняется нашему приговору, что ж, разве мы должны разубеждать его? Не в нашей власти ни принудить его, ни запретить ему. Может быть, даже вероятно, он делает это, чтобы успокоить свою совесть. Нам это неизвестно, его побуждений мы не знаем. Они нас не касаются, и наши решения никогда не имеют ничего общего с судебными постановлениями римского сената и народа. Мы остаемся в границах нашего ведомства – богословия, учения, ритуала.
Его полные губы, обрамленные квадратной бородой, раздвинулись в хитрой улыбке и обнажили крупные редкие зубы.
Однако эта улыбка тут же исчезла, он вскочил, глаза его засверкали:
– Ну скажите сами, доктор Иосиф, – воскликнул он, и голос его ожил, – скажите сами, разве это не великолепно, разве не чудо, что народ, целый народ так небывало дисциплинирован? Что рядом с судом, установленным чужеземной властью, которой этот народ вынужден покоряться, он создает суд добровольный и покоряется ему по влечению сердца? Что, кроме высоких налогов, которые из него выжимает император, он платит добровольные налоги, чтобы императором для него по-прежнему был его бог? Разве такая самодисциплина не единственное в своем роде, великое и удивительное явление? Я нахожу, что наш еврейский народ, его неудержимое стремление не исчезнуть, не дать себя победить – это самое возвышенное и удивительное, что мы видим на нашей оскудевшей и померкшей земле.
…
– Тут, доктор Иосиф, – отвечал Иоанн, – слово за вами, не за мною. Но если вы желаете знать мнение обыкновенного помещика, который смотрит на своего Ягве не как богослов, а просто как человек, не лишенный здравого смысла, охотно вам отвечу. Идея Иоханана бен Заккаи заменить утраченное государство и утраченный храм Ямнией была превосходна, – в ту пору, после катастрофы, другого способа сохранить единство нации не было. Обряд и Закон действительно заменили тогда государство. Но постепенно, по мере того как подрастало новое поколение, не знавшее государства и храма, смысл обряда утрачивался, и сегодня Закон – это груда формул, обряд душит смысл, Иудея задыхается под властью книжников – пустое слово не может надолго заменить бога. Чтобы обрести значение и жизнь, богу нужна своя страна. Вот что и делает сегодня Ягве проблемой, понимаете? Истинно новую жизнь Ягве сможет обрести только тогда, когда Иудея из временного пристанища для его евреев снова сделается страною его евреев. Ягве нужно тело. Его тело – этот край, его жизнь – эти масличные рощи, виноградники, горы, озера, Иордан и море, и пока Ягве и эта страна оторваны друг от друга – оба мертвы. Не сердитесь, что я ударился в поэзию. Ведь простой старик помещик не может, конечно, выражать свои мысли так же ясно, как вы.
Иосифу было что возразить против такого языческого представления о божестве, но он промолчал. Не возражая Иоанну, он сделал вывод:
– Стало быть, если обе проблемы, Ягве и рынок, настоятельно требуют разрешения, вы находите, что и внешние и внутренние условия для восстания уже сложились? Вы считаете, что «Ревнители грядущего дня» с полным правом могут сказать: «День настал»? Правильно я вас понимаю?
– Какой вы еще молодой в ваши семьдесят лет, – отозвался Иоанн, – и какой горячий! Но так просто вы меня в угол не загоните. Разумеется, пока оба эти вопроса – Ягве и состояние рынка – не заострятся до предела, восстание невозможно. Это я действительно сказал. Но я не говорил, будто эти факторы – единственно необходимые предпосылки восстания. Если хотите знать мое мнение, то первое и важнейшее условие заключается в том, чтобы военные шансы такого восстания были не слишком плохи.
Если в романе 1932 года идеалы героя Фейхвангера озвучены в космополитическом псалме:
В эти дни Иосиф написал псалом (*117), известный впоследствии как
«Псалом гражданина вселенной»:О Ягве! Расширь мое зренье и слух,
Чтобы видеть и слышать дали твоей вселенной.
О Ягве! Расширь мое сердце,
Чтобы постичь вселенной твоей многосложность.
О Ягве! Расширь мне гортань,
Чтоб исповедать величье твоей вселенной!Внимайте, народы! Слушайте, о племена!
Не смейте копить — сказал Ягве — духа, на вас излитого,
Расточайте себя по гласу господню,
Ибо я изблюю того, кто скуп
И кто запирает сердце свое и богатство,
От него отвращу свой лик.Сорвись с якоря своего — говорит Ягве, —
Не терплю тех, кто в гавани илом зарос.
Мерзки мне те, кто гниет среди смрада безделья.
Я дал человеку бедра, чтобы нести его над землей,
И ноги для бега,
Чтобы он не стоял как дерево на своих корнях.Ибо дерево имеет одну только пищу,
Человек же питается всем,
Что создано мною под небесами.
Дерево знает всегда лишь подобие свое,
Но у человека есть глаза, чтобы вбирать в себя чуждое ему.
И у него есть кожа, чтобы связать и вкушать иное.
Славьте бога и расточайте себя над землями,Славьте бога и не щадите себя над морями.
Раб тот, кто к одной стране привязал себя!
Не Сионом зовется царство, которое вам обещал я:
Имя его — вселенная.Так Иосиф из гражданина Иудеи сделался гражданином вселенной и из
священника Иосифа бен Маттафия — писателем Иосифом Флавием.
то в романе 1945 года Иосиф Флавий возвращается на родину, чтобы там умереть в придорожной пыли, но остаться в своей земле, раствориться в ней.
Совсем не случайно в послевоенном романе «Ифтах и его дочь» появились следующие строки.
— Мир тебе, Ифтах! — приветствовали хозяина сыновья Зилпы.
— Теперь вы заговорили о мире, — съязвил Ифтах. — А раньше, признайтесь, надеялись больше не увидеть меня. Разве не вы отсекли меня от рода, чтобы я засох, как отрубленная ветвь?
Из сложной и драматической истории создания государства Израиль невозможно удалить проводимой в то время политики селективной иммиграции.
Жсткая фраза «сухие ветви, которые время от времени необходимо отсекать”, трансформировалась в «обрезание сухих ветвей», сказанную по поводу преследования фашистами евреев и смерти многих из них в концлагерях.
В своем последнем романе Лион Фейхтвангер рассказывает, всё-таки, об осознанной и добровольной жертве, которая отдаётся во имя Бога своего народа, который (Бог) и называется (затем в финале) самим народом. У писателя жертва приносится во имя единства народа, которое является залогом создания единого государства.
Да, Лион Фейхтвангер мучительно искал исторический выбор для своего народа… Но, будучи немецким писателем, он показывает, соответствующим образом строя сюжет (почему изгнали самого Ифтаха из родного дома, почему он сам не заключил династический брак своей дочери с соседом), что первопричиной трагедии является чувство национального превосходства и исключительности.











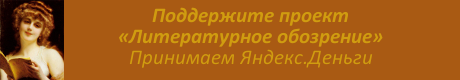
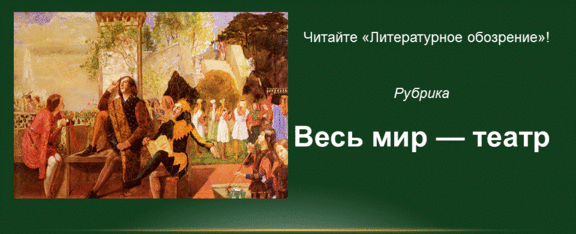
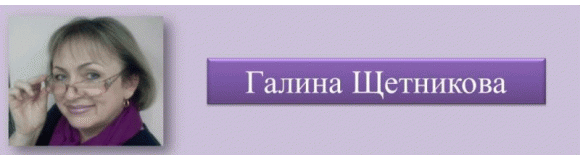


7 комментариев
Как всегда великолепно! Спасибо Наталья!
Большое спасибо за этот рассказ! «Фойхтвангер» был и моим любимым писателем.
У меня все же осталось впечатление от романов этого «Фойхтвангера», что он всюду пытался воткнуть своих соплеменников на верхушку общества. В результате они там действовали не из государственных интересов, поэтому на свой личный уровень получали такие проблемы, с которыми справиться просто не могли.
А «Испанская баллада» поразила откровенной спекуляцией на сексе и вопиющими «историческими неточностями». Но вполне на уровне рассказов про Берию, который после государственной деятельности гонялся за школьницами.
Спасибо!
ФЕЙХТВАНГЕР. ПИСЬМО
«Рано или поздно, если ты сам не вернешься в свой дом, то тебе НАПОМНЯТ кто ты и вернут тебя в него, те, кого ты совсем недавно считал своими братьями…» – Лион Фейхтвангер
Пишу Вам, реб Лион (ни герр, ни господин,
Ни мистер, и, тем паче, ни товарищ)!
Путь к дому своему у нас у всех один –
Непросто отыскать в кромешной хмари.
Письмо Вам принесёт когда-нибудь, в свой срок,
Всевышнего посланец – светлый ангел.
Прочтёте ли его? То знает только Б-г –
Наш с Вами Адонай, Лион Фейхтвангер.
Что до моей души, то в ней страдает Зюсс,
Идя на казнь пред диким подлым сбродом –
Я не стыдился слёз, читая – не стыжусь
И ныне под бездонным небосводом;
В ней зримы Лже-Нерон, семейство Опперман,
И Бомарше, Франциско Гойя с Альбой,
Нацизма застит взор коричневый туман,
Течёт людская кровь рекою алой;
И, ко всему тому, я Флавием столь горд,
Что разделил бы тяжкое с ним бремя,
Как он, бы жизнь отдал за вечный свой народ.
За каждого, в отдельности, еврея;
Мыслитель и пророк, хочу задать вопрос,
Ведь Вы на свете всякое видали:
Под «Хванчкары» бокал, в дыму от папирос,
Как провести Вас смог усатый Сталин?
Не слышали Вы звон кандальный Колымы
И хрипы постояльцев Магадана –
Что ж, хитрость упыря затмила уж умы
Барбюса, Арагона и Роллана.
И пепел Ваших книг струился в небеса,
И танцевали на угольях бесы,
И пролилась дождём Всевышнего слеза,
И – счастье, Вам кадиш не стоил мессы.
Спасеньем Вашим стал американский флаг,
Надёжно сохраняя для потомков,
И в сорок пятом пал униженный Рейхстаг,
И свастики пылились средь обломков.
А мир таков, как был: и нем, и глух, и слеп,
Порою, непотребен в серой яви.
Всё бренно, но не Вы, Лион Фейхтвангер, реб,
Не Зюсс-еврей, и не Иосиф Флавий.
Игорь Хентов
Вот и такие воззвания в стихах писали. Еврейский поэт Хаим-Нахам Бялик.
Из бездн Авадона взнесите песнь о Разгроме,
Что, как дух ваш, черна от пожара,
И рассыпьтесь в народах, и всё в проклятом их доме
Отравите удушьем пожара;
И каждый да сеет по нивам их семя распада,
Повсюду, где ступит и станет.
Если тенью коснётесь чистейшей из лилий их сада –
Почернеет она и завянет;
И если ваш взор упадёт на мрамор их статуй –
Треснут, разбиты надвое;
И смех захватите с собою, горький, проклятый,
Чтоб умерщвлять всё живое…
Забыл. Цитируется по книге А.Иванченко «Путями великого россиянина».