Сегодня приведу небольшой отрывок из книги И.А. Дедюховой «Нравственные критерии анализа». Этот фрагмент касается сложного становления литературы во второй четверти ХХ века, когда всему обществу, его культуре, казалось бы, был нанесен смертельный удар.
При этом литература должна была впервые за всю историю изменить своему назначению, изменить обществу, а в конечном счете — изменить человечеству. Еще в 1905 году известный светоч определил место литературы — качестве половой тряпки при своей карманной партии.
Литература должна стать партийной. В противовес буржуазным нравам, в противовес буржуазной предпринимательской, торгашеской печати, в противовес буржуазному литературному карьеризму и индивидуализму, «барскому анархизму» и погоне за наживой, — социалистический пролетариат должен выдвинуть принцип партийной литературы, развить этот принцип и провести его в жизнь в возможно более полной и цельной форме.
В чем же состоит этот принцип партийной литературы? Не только в том, что для социалистического пролетариата литературное дело не может быть орудием наживы лиц или групп, оно не может быть вообще индивидуальным делом, не зависимым от общего пролетарского дела. Долой литераторов беспартийных! Долой литераторов сверхчеловеков! Литературное дело должно стать частью общепролетарского дела, «колесиком и винтиком» одного-единого, великого социал-демократического механизма, приводимого в движение всем сознательным авангардом всего рабочего класса. Литературное дело должно стать составной частью организованной, планомерной, объединенной социал-демократической партийной работы.
В.И. Ленин «Партийная организация и партийная литература»// Газета «Новая Жизнь» №12 от 13 ноября 1905 г//ПСС, 5 изд., том 12, стр. 99-105
В дальнейшем это привело лишь к… уничтожению литературы и превращению самой читающей страны мира в сферу социальных экспериментов людей с уголовным сознанием.
Всякую нравственность, взятую из внечеловеческого внеклассового понятия, мы отрицаем… Мы в вечную нравственность не верим и обман всяких сказок о нравственности разоблачаем… В основе коммунистической нравственности лежит борьба за укрепление и завершение коммунизма.
В.И. Ленин, выступление на III Всероссийском съезде Российского коммунистического союза молодежи 2 октября 1920 г.
В своей книге Ирина Анатольевна анализирует последствия отхода в художественном анализе действительности от критериев нравственности, которая «ничуть не изменилась со времен строительства египетских пирамид».
Сегодня мы познакомимся с отрывком из главы «О культуре», где сравниваются этические и эстетические концепции хорошо всем знакомых писателей, отчетливо видно, как пробивается настоящая литература сквозь препоны извращенной «партийностью» цензуры.
Важно вчитаться, вслушаться в интонации… поскольку невыученный когда-то урок русской литературы не позволяет решить и сегодняшние проблемы, напрямую вытекающие из неверно расставленных когда-то нравственных акцентов.
О литературе начала ХХ века
Отрывок из книги «Нравственные критерии анализа» И.А. Дедюховой
После социальных потрясений начала ХХ века в официальном советском искусстве, базировавшемся на идеологических принципах «партийности», стало непринято создавать жизнеспособные образы, реалистически отражавшие человека во всей сложности его двойственной природы. Нравственный выбор между Добром и Злом заменился «степенью сознательности», до которой в реальной жизни человек может следовать господствующей идеологии, перешагивая через судьбы окружающих.
Но при этом существуют памятники культуры, которую с легкостью перешагивает любая идеология. Разве у Шекспира изображены более отсталые или некультурные люди? Нет, люди остаются прежними, никакие «новые люди коммунистической формации» не возникают.
Шекспир лишь глубже понимает своих героев, которым не чуждо все человеческое. Они переживают «шекспировские» страсти, знакомые любому простолюдину. Они любят, волнуются за будущее детей, переживают нужду, проживая на сцене свою жизнь во всем ее многообразии. Они стремятся и к материальному благополучию, зачастую не брезгуя средствами, а зрители разворачивающейся перед ними драмы прикидывают на себя поступки героев пьесы, будь то король или служанка.
В новом «революционном» искусстве художественный образ живого человека начинают заменять схемы, как амплуа в театре марионеток. Недостатки приписываются исключительно «врагам революции», все положительные качества – тем героям, которые «встали на новый путь».
В этом плане интересно рассмотреть отрывок романа «Поднятая целина» (1932 г.) Михаила Александровича Шолохова (1905-1984 гг.), где «находят общий язык» два будущих «врага революции».
Тогда, после ужина, Яков Лукич достал кисет, присел на сундук, поджав ногу в толстом шерстяном чулке: заговорил — вылил то, что годами горько накипало на сердце:
— О чем толковать-то, Александр Анисимович? Жизня никак не радует, не веселит. Вот энто трошки зачали казачки собираться с хозяйством, богатеть. Налоги в двадцать шестом али в двадцать седьмом году были, ну, сказать, относительные. А теперь опять пошло навыворот. У вас в станице как, про коллективизацию что слыхать ай нет?
— Слыхать, — коротко отвечал гость, — слюнявя бумажку и внимательно исподлобья посматривая на хозяина.
— Стало быть, от этой песни везде слезьми плачут? Вот зараз про себя вам скажу: вернулся я в двадцатом году из отступа. У Черного моря осталось две пары коней и все добро. Вернулся к голому куреню. С энтих пор работал день и ночь. Продразверсткой первый раз обидели товарищи: забрали все зерно под гребло. А потом этим обидам и счет я потерял. Хоть счет-то им можно произвесть: обидют и квиток выпишут, чтоб не забыл — Яков Лукич встал, полез рукой за зеркало и вытянул, улыбаясь в подстриженные усы, связку бумаг. — Вот они тут, квитки об том, что сдавал в двадцать первом году: а сдавал и хлеб, и мясу, и маслу, и кожи, и шерсть, и птицу, и целыми быками водил в заготконтору. А вот это окладные листы по единому сельскому налогу, по самооблогу и опять же квитки за страховку… И за дым из трубы платил, и за то, что скотина живая на базу стоит… Скоро этих бумажек мешок насбираю. Словом, Александр Анисимович, жил я — сам возля земли кормился и других возле себя кормил. Хоть и не раз шкуру с меня сымали, а я опять же ею обрастал. Нажил спервоначалу пару бычат, они подросли. Одного сдал в казну на мясо. За швейную машину женину купил другого. Спустя время, к двадцать пятому году, подошла еще пара от своих коров. Стало у меня две пары быков и две коровы. Голосу меня не лишали, в будущие времена зачислили меня крепким середняком.
[М.А. Шолохов, «Поднятая целина»]
Будущий «враг народа» Яков Лукич рассказывает, как он пытался в «поте лица» заработать на достойную жизнь. Любой человек, знакомый с тяжелым сельским трудом, результат которого во многом зависит и от погодных условий, — понимает, что вряд ли Яков Лукич имел досуг, чтобы читать запрещенную литературу. Все его доводы против советской власти заключаются в том, что с ним поступают несправедливо, постоянно душили налогами и поборами, не давая возможности достичь материального благополучия… собственным трудом.

И.А. Чарская (1923 г. р.) иллюстрация к роману М.А. Шолохова «Поднятая целина»
В чем мы можем упрекнуть Якова Лукича? В излишнем корыстолюбии? Но он не претендует на чужое, он говорит лишь о своем. Да и никто из нас сегодняшних не работал так тяжело, чтобы отдать плоды своего труда за ворох бумажек, которые он бережно хранит. А мы знаем, что при случае эти бумажки о заготовках не будут иметь никакой цены.
Мы понимаем, что не явись к нему ночной гость, не вспомни о нем при подготовке мятежа, Яков Лукич все равно будет восприниматься властью лишь потенциальным врагом… потому что способен прокормить себя без нее. Он мог бы уже стать крепким хозяином в «царском режиме», т.к. мы чувствуем за его словами… ту самую культуру земледелия, о которой писал Катон, причем, впитанную с детства, вековую культуру.
Мятеж Якова Лукича – это мятеж попранного человеческого достоинства, мятеж человека, который никогда не будет для власти «хорошим», сколько «заготовительных» бумажек не сложит в стопку. И в этом унижении достоинства недюжинного человека, в недостойных «чапаевках» власти с хитрым рачительным хозяином, — закладывается будущий трагический финал романа.
Они вышли на крыльцо. Далеко за Доном громоздились тяжелые грозовые тучи, наискось резали небо молнии, чуть слышно погромыхивал гром.
— Дивно мне, что так припозднилась гроза в нынешнем году, — сказал Майданников. — Покрасоваться на нее, что ли?
— Вы красуйтесь на нее, а я пошел. — Разметнов попрощался с товарищами, молодцевато сбежал с крыльца.
Он вышел за хутор, постоял немного, затем неторопливо направился к кладбищу, далеко, кружным путем, обходя смутно видневшиеся кресты, могилы, полуразрушенную каменную ограду. Он пришел туда, куда ему надо было. Снял фуражку, пригладил правой рукой седой чуб и, глядя на край осевшей могилы, негромко проговорил:
— Не по-доброму, не в аккурате соблюдаю твое последнее жилье, Евдокия… — Нагнулся, поднял сухой комок глины, растер его в ладонях, уже совсем глухим голосом сказал: — А ведь я доныне люблю тебя, моя незабудняя, одна на всю мою жизнь…
Видишь, все некогда… Редко видимся… Ежели сможешь — прости меня за все лихо… За все, чем обидел тебя, мертвую…
Он долго стоял с непокрытой головой, славно прислушивался и ждал ответа, стоял не шевелясь, по-стариковски горбясь. Дул в лицо ему теплый ветер, накрапывал теплый дождь…
За Доном бело вспыхивали зарницы, и суровые, безрадостные глаза Разметнова смотрели уже не вниз, не на обвалившийся край родной могилки, а туда, где за невидимой кромкой горизонта алым полымем озарялось сразу полнеба и, будя к жизни засыпающую природу, величавая и буйная, как в жаркую летнюю пору, шла последняя в этом году гроза.
[М.А. Шолохов, финал романа «Поднятая целина»]
Ирина Алексеевна Чарская «На мельнице» (иллюстрация к роману М.А. Шолохова «Тихий Дон»)
Трагедии на этом хуторе могло и не быть, ведь в двадцатые годы Яков Лукич еще надеялся на лучшее будущее. Но мы понимаем, что власть вовсе не собиралась с ним «цацкаться», просто ей было откровенно не до него. Роман начинается в тот момент, когда власть всерьез заинтересовалась Яковом Лукичом, не оставляя ему никакого иного выхода, кроме вынужденного мятежа.
Надежды на будущее Яков Лукич связывал с изменением политики, то ожидал в отношении себя… благодарности и более уважительного отношения. Он ожидал, что после всех заготовок власть снизит налоговую нагрузку, что он сможет «встать на ноги» хотя бы к старости.
Он рассчитывал на определенную культуру управления, которая оставит возле него некое личное пространство, в котором он будет чувствовать себя хозяином. Но, как мы понимаем, власть подходит к нему вплотную, заставляя делать не нравственный, а «идейный» выбор, ничего не предлагая взамен.
И после тяжелых сцен раскулачивания и высылки односельчан, Яков Лукич делает выбор, еще не предполагая, к каким последствиям он его приведет.
Этот отрывок с откровениями врага народа и камерной бытовой сценой у могилки «незабудней» — будет полезно сравнить с отрывками из повести «Перемена» Мариэтты Шагинян (1888-1982 гг.). Повесть вышла в печать десятью годами раньше, в 1922 году, как раз в тот период, когда Яков Лукич собирал бумажки за заготовки и надеялся на лучшее.
А в 1912 году, к 300-летию Дома Романовых, выходит альбом фотографических открыток Ростова-на-Дону. Почитаем и мы отрывок повести «Перемена» (1922 г.), рассматривая пожелтевшие фотографии, чтобы глубже понять истинный смысл описанных в ней «перемен».
Нигде «перемена» не была такою сплошной и беспередышной, как на юге России в эпоху гражданской войны. Я и хочу рассказать о ней, имея в центре внимания не событие только, но человека.
Я провела в Донской области около трех с половиною лет революции, с поездками в Петербург и Закавказье. За это время мне пришлось пережить несколько переворотов, немецкую оккупацию, приезд «союзников» в гости (англичане и французы в Новороссийске и на Кубани), полосы междувластия, когда единственной защитницей обывателя была домовая охрана, атаманщину, деникинщину, врангелевщину.
Обыватель, как растение, сопротивлялся этому ветру событий. Он стоял на месте, и волны шли через него, оставляя отметы. Отсюда не «историческое» (с перспективой), а чисто локальное, местное запечатление всего пережитого. Но чтоб яснее представить себе эту «локальность», читатель должен видеть кусок степной России, о которой я поведу речь. Из страны черного хлеба и гречневой каши вы попадаете в страну пшеницы. Степной простор без края, по обе стороны железнодорожного полотна.
К середине лета он выжжен солнцем, на пыльной земле — сухие хвостики ароматной травки «чебрец», свист цикад и зигзаги ящериц. Уши наполнены перебоями этого свиста; солнца так много, что кажется, будто и оно шумит в ушах, особливо в полдень.
Сонные, сытые станицы, — хлеба много, лени много. Есть легко, значит трудно работать и думать. Никакой борьбы за благообразие, за разнообразие: хлеб душит все. Излишек зерна приучает к барышу, с которым не сравнится скромный барыш огородника, кустаря, пчеловода. И вы видите, что у казака нет ничего, кроме хлеба. Хлеба — и денег.
Даже донской хуторянин все свое внимание кладет на пшеницу. Заедешь на хутор, — та же сонная лень, хлеб, молоко, помидоры, черешня, — и нет картофеля, нет капусты. Картофель и капуста на Дону дороги, потому что нет выгоды возиться с ними. Пшеница убила все.
Деревни без дерев: лень их сажать. О садиках нет и помину. И стоит с августа над этим нагретым простором душная пыль молотящегося хлеба, густая до того, что чихнуть страшно — заползет в глотку и ноздри. А рядом расковыряно черное чрево земли, полное угля. Вместо цветов под Новочеркасском дети собирают окаменелости перистых рыб, кузнечиков, папоротников.
На узле хлебного и угольного пути, где пролетает поезд, знакомый москвичам и петербуржцам по летнему следованию на минеральные, стоит город, построенный спекулянтами для спекуляций, Ростов-на-Дону. Это молодой город, у него нет истории, кроме разве «проезда высочайших особ» да похорон городских голов. Весь он из конца в конец прорезан одной главной торговой жилой, от вокзала и до заставы. Вокруг вокзала грязь, гной, гниль Темерницкой лужи, почерневшей от копоти и фабричных слюней, выплеванных сюда темными трубами фабрик, черными жабрами локомотивов, угольной и мусорной пылью. Тут рассадник холеры, и летом здесь солнце печет так, что каблуки застревают в асфальте.
По главной улице — бесконечный ряд небоскребов, домов с новейшей техникой, взлетевших под самое, лысое от солнца и засухи небо, — и в огромных сквозных витринах, веялки, молотилки, моторы, паровики, колеса, трубы, а над витринами золотом по черному — имена американских, английских, французских акционерных обществ. Склады, конторы, склады отделения фабрик, банки и опять склады и опять конторы.
Внизу под городом, параллельно с главною улицей, белая лента Дона, запруженного грязными барками, баржами, плотами, заводями. Хлеб идет по дорогам, хлеб идет по воде, — и огромная парамоновская верфь принимает его, парамоновская мельница перемалывает
его, а город рассказывает устами обывателей парамоновские семейные новости, принимает парамоновские пожертвования. […]
Прислушайтесь к языку — ростовский язык, это — кратчайшая линия между двумя точками, жаргон, образующим ферментом которого явилась экономия. Отсюда — пособное значенье жеста. Но как здесь жестикулируют! Не вдохновенно-бестолково, подобно одесситам, а скорей таинственно, как глухонемые. […]
Где наживают, там не любят тратить. Ростов почти не украшается; и все благие начинания, школы, библиотеки, театры, едва став на ноги, клонятся к упадку, либо прекочевывают на другую почву: так распались на моих глазах две хороших художественных школы, библиотека, консерватория, лучший молодой театр…
Но мещанином и спекулянтом Ростов не кончается. Глухие зарницы не раз полыхали над темным фабричным Темерником.
Ростов, это — центр рабочих. И ростовские рабочие средь пыли и копоти в бреду хохлацко-американской сутолоки давно стали «интернационалистами». О них читали ростовские юноши в запрещенных брошюрах, что эти рабочие считаются передовыми.
Итак, вот схема:1. Место действия — сонная степь под солнцем Донобласти; и в ней малая точка — город.
2. Время действия 1917 — 1919 г.г.
3. Действующие лица — казачество и крестьянство, избалованное излишком; в городе-коридоре — номады-спекулянты, неврастеническая интеллигенция и крепко сидячее мещанство. И рядом муравейник рабочих, пропитанных зловонью Темерника, муравейник шахтеров, изглоданных угольной пылью, — работающих от восьми до шести и опять от восьми до шести и уже тайком исповедующих железную формулу, которой дано будет лечь, как печать, на каждую государственную бумажонку: «не трудящийся да не ест».В этих записках нет ни одного выдуманного слова, ни одной непережитой сцены. Кое-где я только изменила имена и сдвинула пространство.
[Мариэтта Шагинян, «Перемена»]
Интересно сравнить и личности двух авторов, выдавших столь разные образные ряды по одному и тому же поводу. Михаил Шолохов, уроженец станицы Вешенской, знающий с детства, как «хлеб душит все», а «излишек зерна приучает к барышу». Он по себе знает, какой «сонной ленью» достается пшеница, о которой Мариэтта Шагинян пишет почти с ненавистью.
Его Якову Лукичу некогда было знакомиться с литературными новинками, он читал в это время только свои заготовительные бумажки. Но если бы он почитал повесть рафинированной московской барышни, «с восторгом принявшей революцию», то, наверно, очень бы удивился, поняв, что мощным давлением государственной машины, облепленной такими восторженными барышнями, ему затрудняют пропитание исключительно из заботы о его «идейном росте». Чтобы ему было легче «работать и думать», а также бороться «за благообразие, за разнообразие».
По Шагинян вообще получается, что Яков Лукич занимался заготовками от нечего делать, от «сонной лени». Картофель и капуста на Дону дороги, не потому, что нет выгоды возиться с ними, а потому что они в этой местности не растут, хотя их пытаются вырастить и ухаживают за ними, чтобы вырастить хотя бы для скотины. Ведь прежде чем скотину отдать заготовителю, ее надо вырастить, как, впрочем, и хлеб.
Шагинян описывает выгоревшую от засухи степь, уныние которой мешает ее прогулкам и революционным мечтаниям. Она не знает, с каким растущим отчаянием ждут дождь в этих сытых местах, как, пытаясь поймать погоду, работают без сна во время посевной и сбора урожая. Раздражение Шагинян легко объясняется ее уверенностью, что она куда лучше знает, как распорядиться плодами труда Якова Лукича, не поинтересовавшись его мнением на этот счет.
Этот отрывок сразу же объясняет ожесточенную критику М. Шагинян романа «Тихий Дон» Шолохова, прежде всего, за обилие «жаргона» и, конечно, «неправильную политическую платформу». Но, в отличие от нее, Шолохов не называет свои родные края «Донобластью». Да и сложно себе представить, что он мог бы с легкостью сочинить роман «Гидроцентраль». С тем же набором представлений о жизни людей, что М. Шагинян с блеском демонстрирует в описаниях культуры земледелия Дона.
О «хохлацко-американской сутолоке» Ростова-на-Дону, основанного Грамотой императрицы Елизаветы Петровны от 15 декабря 1749 года, пожалуй, лучше всего обратиться к восторженному мнению полковника Чарноты из пьесы Михаила Афанасьевича Булгакова (1891-1940 гг.) «Бег» (1928 г.).
Личико. Клоп по вас ползет, Григорий Лукьянович, снимите.
Чарнота. Да ну его к черту, и не подумаю снимать, совершенно бесполезно. Пускай ползет, он мне не мешает. Ах, город!.. Каких я только городов не перевидал, но такого… Да, видал многие города, очаровательные города, мировые!
Личико. Какие же вы города видали, Григорий Лукьянович?
Чарнота. Господи! А Харьков! А Ростов! А Киев! Эх, Киев-город, красота, Марья Константиновна! Вот так Лавра пылает на горах, а Днепро, Днепро! Неописуемый воздух, неописуемый свет! Травы, сеном пахнет, склоны, долы, на Днепре черторой! И помню, какой славный бой был под Киевом, прелестный бой! Тепло было, солнышко, тепло, но не жарко, Марья Константиновна. И вши, конечно, были… Вошь — вот это насекомое!
[М.А. Булгаков «Бег»]
Возможно, М. Шагинян выражает в отношении Ростова-на-Дону личное недовольство, что оказалась здесь, а не в парижском кафе с бокалом абсента, поскольку мечтать о революции намного приятнее, чем переживать ее в гуще «неврастенической интеллигенции и крепко сидячего мещанства». Но полковник Чарнота уже прошелся и по хрустальной мечте всех приверженцев революционных преобразований: «Я заблуждался. Париж еще хуже. Так, сероватый город… Видел и Афины, и Марсель, но… пошлые города! Да и тут завязались связи, кое-какие знакомства… Надо же, чтобы и Константинополь кто-нибудь заселял».
В финале своей повести Мариэтта Шагинян описывает необычайно «прелестный бой», закончившейся массовой зачисткой от людей, которые строили и любили эту красоту – «вычищен город от белых до последнего белогвардейца». И по всем законам литературного жанра в «Перемене» тоже бурно протекает конфликт «между старым и новым», заканчиваясь похоронами «маленькой подруги» Куси, которая «завещала вечную веру в борьбу», «за победу любви на земле».
И недаром муза трагедии пела городу ночью декабрьской. Вычищен город от белых до последнего белогвардейца, буденновцы лихо гарцуют по городу на конях, одно за другим возвращаются учрежденья. Уже разместился на месте штат телеграфной команды, автомобиль с политкомами и военные части вернулись, и, подводу ведя за подводой, на старое место въезжают весельчаки фуражиры.
Все по-прежнему в городе. Нет только Куси!
В серое, снежное утро задвигались тучами толпы, на духовых заиграл прощальную песню оркестр. Неся на руках легкий гробик, шла молодежь, чередуясь, до самой могилы. Когда же в открытую яму посыпались первые комья и больно ударил нам в уши шершавый стук хлопьев земных о гробовую доску, — Яков Львович промолвил над нею дрогнувшим голосом:
— Спи, славной смертью погибшая, маленькая подруга! Умерла наша Куся, но не станем провожать ее плачем. Не она ли нам завещала вечную веру в борьбу? Будем отныне как дети, чистые сердцем, друзья мои! Неутомимо поборемся за победу любви на земле!
А тем временем серое утро ослепительным днем заменилось. Пачками пальм засияли ледяные сосульки. И скатаны снегом, гладко смеясь под полозьями, во все стороны, как провода, понеслись первопутки:
Скоро, скоро все страны станут свободными! Заторопятся люди вести у себя революцию! И музыка, музыка, музыка пройдет по всем улицам мира, с барабанщиками, отбивающими Перемену:
трам-таррарам, просыпайтесь!
Утреннюю зарю мы играем тебе,[Мариэтта Шагинян, «Перемена»]
Сопоставляя снимки 1912 года и отрывки повести «Перемена», мы видим, что всего лишь за десять лет произошли непоправимые, катастрофические изменения… по отношению к людям. Конечно, повесть «Перемена», не отражая жизнь во всей ее полноте, полностью подчиненная восторжествовавшей идеологии, — мы не можем отнести к искусству. И то, что мало кто слышал об этой повести, хотя совсем недавно в 2012 году отмечалось 120 лет со дня рождения писательницы, — говорит о том, что повесть осталась в читательском вакууме, никто не последовал призывам ее героини, а ее похороны в повести стали окончательными и бесповоротными.
Но стоит лишь вспомнить Макара Нагульнова, деда Щукаря, Лушку… других героев «Поднятой целины», мы сможем почувствовать объективную реальность их образов, впитавших в себя такую мощную творческую энергию нескольких поколений читателей, что в чем-то они становятся… реальнее нас, пока не отраженных в художественных образах такой силы.
Этот ответный читательский порыв возникает потому, что герои «Поднятой целины» описаны с любовью и уважением к реальным людям. И любовь здесь земная, всем понятная, принимающая и форму болезненной любви Макара к хуторской стерве Лушке, которую он считает почти постыдной для себя, но «сильна как смерть любовь и стрелы ее – стрелы огненные». Любовь и для «сознательного» Макара не меняет своего значения, она не зовет его к «мировой борьбе», а обозначает ту же саднящую боль в сердце, что и для героев «Ромео и Джульетты», восстанавливая для нас… «связь времен». Люди продолжают любить и надеяться на лучшее и в горниле «социальных преобразований».
Перечисление мучительных заготовок Якова Лукича совпадает с тяжелыми читательскими раздумьями. Современники описываемых событий хорошо понимают, как повезло Якову Лукичу, что «весельчаки фуражиры» ограничились выдачей издевательской бумажки, а не расстреляли его возле амбара за укрывательство собственного зерна. Рассуждения Якова Лукича полностью совпадают с внутренними читательскими сомнениями в справедливости того, что московская барышня в повести «Перемена» с легкостью накладывает «как печать, на каждую государственную бумажонку: «не трудящийся да не ест»».
Но дальше читатель глазами Якова Лукича в сцене ночного убийства отступившего от их саботажа соратника – видит глубинного его падения, становясь безмолвным свидетелем слабой безуспешной попытки спасти свою куму, понимая, что вместе с Половцевым Яков Лукич переступает в душе за ту грань, откуда обратной дороги уже не будет.
В полусумраке хаты он видит обезумевшие от ужаса, вспухшие от невыплаканных слез глаза, почерневшее от удушья лицо. Ему становится не по себе, хочется скорей отсюда, на воздух… Он со злостью и отвращением давит пальцами ей за ушами. От чудовищной боли она бьется, на короткое время теряет сознание. Потом, придя в себя, вдруг выталкивает языком мокрый, горячий от слюны кляп, но не кричит, а мелким, захлебывающимся шепотом просит: — Родненькие!.. родненькие, пожалейте! Все скажу! — Она узнает Якова Лукича. Ведь он же кум ей, с ним она семь лет назад крестила сестриного сына. И трудно, как косноязычная, шевелит изуродованными, разорванными губами: — Куманек!.. родимый мой!.. За что?
Половцев испуганно накрывает рот ей своей широкой ладонью. Она еще пытается в припадке надежды на милость целовать эту ладонь своими окровавленными губами. Ей хочется жить! Ей страшно!
— Ходил муж куда или нет?
Она отрицательно качает головой. Яков Лукич хватается за руки Половцева: — Ваше… Ваше… Ксан Анисимыч!.. Не трожь ее… Мы ей пригрозим, не скажет!.. Век не скажет!..
Половцев отталкивает его. Он впервые за все эти трудные минуты вытирает тылом ладони лицо, думает: «Завтра же выдаст! Но она — женщина, казачка, мне, офицеру, стыдно… К черту!.. Закрыть ей глаза, чтобы последнего не видела…»
Заворачивает ей на голову подол холстяной рубашки, секунду останавливает взгляд на ладном теле этой не рожавшей тридцатилетней женщины. Она лежит на боку, поджав ногу, как большая белая подстреленная птица… Половцев в полусумраке вдруг видит: ложбина на груди, смуглый живот женщины начинают лосниться, стремительно покрываясь испариной.
«Поняла, зачем голову накрыл. К черту!..» Половцев, хакнув, опускает лезвие топора на закрывшую лицо рубаху.
[М.А. Шолохов «Поднятая целина»]
Роман «Поднятая целина» — не о «победе нового над старым», а о том, к каким ужасным последствиям приводит навязывание людям новых «правил игры» от имени государства, как тяжело людям приходится переживать резкие смены государственного строя.
М. Шагинян критикует М. Шолохова за презираемый ею «жаргон», на котором говорят его герои: «в аккурате», «возля», «сымали», «трошки», «зараз», «слезьми»… Наверно, с ее точки зрения, она боролась за культуру русского языка.
Но куда более некультурно с ее стороны – не слышать отражения времени в «Великом и Могучем», в ставших привычными словосочетаниями-лозунгами: «решительное наступление», «вторичное задание по хлебу», «сломить его сопротивление», «карать», «ликвидировать его как класс»…
Этот «новояз» выявляет, что против мирного населения ведется продуманная военная кампания, а «мировая революция» завершится не победой какого-то «пролетариата», а привычным грабежом на базу Якова Лукича. Людям, «не знающим местных условий», считающим, что пшеницу Яков Лукич собирает в виде французских булок с деревьев, которые «ленится сажать», — наплевать на его жизнь, его личность. Они будут делать заключения о том, насколько можно взломать его жизнь, – по справке о социальной принадлежности к определенному «классу». Вовсе не потому, что Яков Лукич десять лет лишь скрывал свою «вражескую сущность», а потому что он, как рассудительный неглупый человек, который отлично понимает, насколько далеки идеологические штампы от реальной жизни «возля земли».
И все эти «перемены», элементарное отсутствие внутренней культуры в отношении собственных мирных граждан, отсутствие и слабой надежды на справедливость, — толкают Якова Лукича на преступление, которое становится для него личным крахом. Мы видим, как карательные меры государственного воздействия превращают мирного труженика, опору любого государственного строя, – в преступника, как они безвозвратно разрушают его личность.
— Это здорово! Нет, товарищ, так не годится. Этак можно подорвать всякое доверие к нашим мероприятиям. А что скажет тогда середняк? Он скажет: «Вот она какая. Советская власть! Туда-сюда мужиком крутит». Ленин нас учил серьезно учитывать настроения крестьянства, а ты говоришь «вторичное задание». Это, брат, мальчишество.
— Мальчишество? — Давыдов побагровел. — Сталин, как видно… ошибся, по-твоему, а?
— При чем тут Сталин?
— Речь его читал на конференции марксистов, этих, как их… Ну, вот земельным вопросом они… да как их, черт? Ну, земельников, что ли!
— Аграрников?
— Вот-вот!
— Так что же?
— Спроси-ка «Правду» с этой речью.
Управдел принес «Правду». Давыдов жадно шарил глазами. Секретарь, выжидательно улыбаясь, смотрел ему в лицо.
— Вот? Это как?.. «…Раскулачивания нельзя было допускать, пока мы стояли на точке зрения ограничения…» Ну, и дальше… да вот: «А теперь? Теперь — другое дело. Теперь мы имеем возможность повести решительное наступление на кулачество, сломить его сопротивление, ликвидировать его как класс…» Как класс, понял? Почему же нельзя дать вторично задание по хлебу? Почему нельзя совсем его — к ногтю?
Секретарь смахнул с лица улыбку, посерьезнел.
— Там дальше сказано, что раскулачивает бедняцко-середняцкая масса, идущая в колхоз. Не так ли? Читай.
— Эка ты!
— Да ты не экай! — озлобился секретарь, и даже голос у него дрогнул. — А ты что предлагаешь? Административную меру, для каждого кулака без разбора. Это — в районе, где только четырнадцать процентов коллективизации, где середняк пока только собирается идти в колхоз. На этом деле можно в момент свернуть голову. Вот такие приезжают, без знания местных условий… — Секретарь сдержался и уже тише продолжал: — Дров с такими воззрениями ты можешь наломать сколько хочешь.
— Это как тебе сказать…
— Да уж будь спокоен! Если бы необходима и своевременна была такая мера, крайком прямо приказал бы нам: «Уничтожить кулака!..» И по-жа-луй-ста! В два счета. Милиция, весь аппарат к вашим услугам… А пока мы только частично, через нарсуд, по сто седьмой статье караем экономически кулака — укрывателя хлеба.
— Так что же, по-твоему, батрачество, беднота и середняк против раскулачивания? За кулака? Вести-то их на кулака надо?
Секретарь резко щелкнул замком портфеля, сухо сказал:
— Тебе угодно по-своему истолковывать всякое слово вождя, но за район отвечает бюро райкома, я персонально. Потрудись там, куда мы тебя посылаем, проводить нашу линию, а не изобретенную тобой. А мне, извини, дискутировать с тобой некогда. У меня помимо этого дела. — И встал.
[М.А. Шолохов «Поднятая целина»]
В момент написания повести «Перемена» М. Шагинян исполнилось 34 года. Шолохов пишет роман «Поднятая целина» в 27 лет, будучи моложе почти всех своих героев. Если бы «Перемена» отразила реальную жизнь методами искусства, не в идеологическом, заведомо некультурном контексте, она бы во многом сняла необходимость для Шолохова торопливо, почти на уровне газетного фельетона пытаться отразить государственное давление, под напором которого ломаются судьбы его героев.
Настоящее искусство всегда меняет жизнь к лучшему, становясь своеобразным посредником между обществом и государством, отражая истинные жизненные ценности своих героев. И если через десять после написания повести «Перемена» условия жизни изменились лишь в худшую сторону, это, во-первых, означает, что данное произведение не является литературой, а представляет собой обычную графоманию.
Но попутно само ухудшение жизненных условий, демонстрируемое ворохом бумажек Якова Лукича, выявляет, что при всех убедительных обоснованиях «светлого пути всего человечества» в интересах «народа» или «класса» — любая идеология является лишь очередным обоснованием легитимности вхождения во власть тех, кто изначально вынужден прикрывать свои истинные интересы – идеологией.
Конечно, если долго повторять какие-то штампы из самооправдания, из попытки найти «разумное» в происходящем вокруг кошмаре гуманитарной катастрофы, не замечая и тех разительных изменений с фотографиями 1912 года, то потихоньку сам начинаешь верить, что уничтожение «никому не нужного» Якова Лукича – благотворно отразится на всеобщей «борьбе за любовь». Вот только чем же это будет лучше убийства Алёны Ивановны, коллежской секретарши, процентщицы, — «крошечной, сухой старушонки, лет шестидесяти», как описал ее Достоевский с родной тетушки в романе «Преступление и наказание»?..
1922 год стал особым в восприятии революционных событий в России, поскольку в этот период газеты мира обошла фотография умирающего от голода ребенка. Внутри страны положение очень тяжелое, а повесть М. Шагинян как бы вполне однозначно определяет основного виновника – «ленивого барышника» Якова Лукича, наивно полагающего, будто заготовительные справки оградят его от государственного интереса к его собственности, не упустив возможности растоптать его душу.
По сути, повесть «Перемена» является социальным доносом, вполне аналогичным, какой пишет Макар Нагульнов на своего односельчанина, пожелавшего продать своих собственных быков, не поинтересовавшись, как этот поступок может отразиться на «мировой революции». Поэтому Максим Горький (1868-1936 гг.) после выхода «Перемены» в свет писал Вениамину Каверину (1902—1989 гг.): «За ее роман «Перемена» ей следовало бы скушать бутерброд с английскими булавками».
Но за «верность идеалам» М. Шагинян, не создав ни одного художественного образа, в которых бы современники черпали веру в жизнь, а потомки бы увидели правдивый отпечаток своего времени – получает массу государственных наград. А Шолохов… уже не успевает за теми переменами, которые происходят в стране, где литература начинает оправдывать глумление над человеком, растаптываемого его всей мощью «идейного» государственного давления. Следующий 1933 год входит в историю страны, как Апокалипсис – с голодом, поразившим все бывшие «пшеничные места», в том числе и «Донобласть», как месть самой природы за попранное достоинство человека «возля земли». А роман «Поднятая целина» входит в школьную программу как «роман о коллективизации в стране», где описываемые события необходимо рассмотреть ретроспективу «реформ и преобразований в нашей стране после отмены крепостного права в 1861 г.»
И отголоском того идеологического давления, которое каждого человека ломает в отдельности, добираясь до сокровенных уголков его души, звучит для нас голос сделавшего свой выбор полковника Чарноты, которому страшно плохо без Родины, но он отказывается вернуться домой, зная, что не сможет принять навязываемые идеологические игрища.
Чарнота. Но не идейный. Я равнодушен. Я на большевиков не сержусь. Победили и пусть радуются. Зачем я буду портить настроение своим появлением?
[М.А. Булгаков «Бег»]


 Видишь, все некогда… Редко видимся… Ежели сможешь — прости меня за все лихо… За все, чем обидел тебя, мертвую…
Видишь, все некогда… Редко видимся… Ежели сможешь — прости меня за все лихо… За все, чем обидел тебя, мертвую…


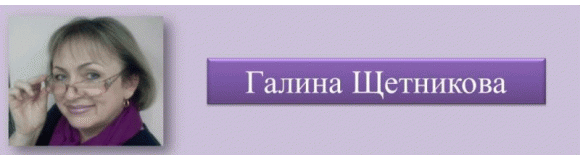


6 комментариев
Григорий Лукьянович Чарнота, запорожец по происхождению, кавалерист,
генерал-майор в армии белых. (Из первоисточника). НЕ ПОЛКОВНИК.
Есть различия? Полковнику можно быть «не идейным», генерал-майору нельзя?
Различий в части «умственной деятельности» быть не должно.
Ну, слава богу! Просто возвеличивание на фоне нынешних орденоносцев, после «необычайно прэлестных» обстрелов Донбасса… сразу же заставляет все мужские регалии воспринимать в штыки.
Просто недавно смотрел фильм «Бег». Неоднозначное впечатление…
Кулак — это, как правило, сельский ростовщик и хлеботорговец. Причем проценты, по рассказам моего деда, были конские — в районе 100.
Там где урожай сам-2, сам-3 «оборотного капитала» не хватает, а на юге может немного полегче было, ну и на севере, где жили охотой, собирательством и рыбной ловлей.
Вина коммунистов состояла в том, что они утрамбовали всех по единому шаблону, не делая скидок на природные условия.